Text
Тимур СЕЛИВАНОВ. Книжные страсти: рецензия на семь (плюс две) книги о книгах
Думаем, что статей и рассуждений о книгах вы уже достаточно прочитали на наших страницах – так что хватит стоять на месте, пора переходить на следующий этап, углубиться и начать рассуждать о КНИГАХ О КНИГАХ. Свою свежайшую рецензию на одну советскую серию КНИГ О КНИГАХ предоставил нам Тимур Селиванов.
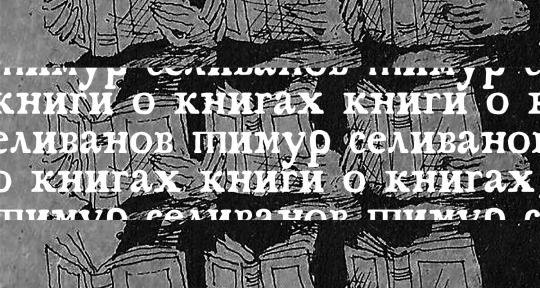
Я прочел немало книг о книгах, библиофилах и библиотеках, но до недавнего времени делал это бессистемно, какая под руку попадется — ту и открывал. В конце апреля я, ради читательской самодисциплины, взялся за серию прозаических антологий «Писатели о книге, чтении и библиофильстве».
Зачем я собираю и читаю книги о книгах?
Книги о книгах — это книги о кропотливом, незаметном, самозамкнутом труде ради труда, об упорядочивании порядка и систематизации систем; они обнажают блаженную бессмысленность гуманитарной работы; они — про то, что культура всегда начинается заново, с личных усилий каждого человека, и умирает с ним; они воспитывают во мне чувство незаконченности и неустойчивости человека; это медитации на потерю, пустоту — не изначальную, а именно что продырявленную, пустоту разрухи.
Книги о книгах не пользуются спросом, если судить по низкому ценнику на эту литературу у букинистов; из библиотек ее тоже нередко списывают, причем в идеальном состоянии; таким образом собирать книги о книгах легко и приятно. По теме есть обозримое количество русскоязычных источников, особенно если исключить из поисков специальные издания вроде собраний экслибрисов или каталогов редких книг. Читать книги о книгах не слишком тягостно; даже в самой ерундовой публикации найдется указание, например, на забытого писателя или смешной эпизод из жизни библиофилов. А есть и неувядающая классика, малоизвестная за пределами жанра — например, «Библиофилы и библиоманы» Кунина, «За мертвыми душами» Минцлова, «Читайте старые книги» Нодье.
Что представляет из себя серия и как я ее читал?
Серия семитомная, книги выходили с 1979 по 1988 гг. в издательстве «Книга». В сборники вошли не только рассказы, но и эссе, доклады, отрывки из романов, повестей, автобиографий. Каждый из сборников объединен по страновому и/или временнóму признаку.
Я читал книги по порядку их выхода, а не по датам написания оригинальных текстов. Сборник англичан и французов «Корабли мысли» переиздавался с дополнениями, я прочел как раз второе издание. Восьмая книга в серии («Листая вечные страницы») — сборник best of, в который проскочили шесть уникальных материалов; с ними я тоже ознакомился. Более узконаправленную книгу того же издательства («Книжные страсти. Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках») я перечел в дополнение к книгомарафону.
Покнижный разбор
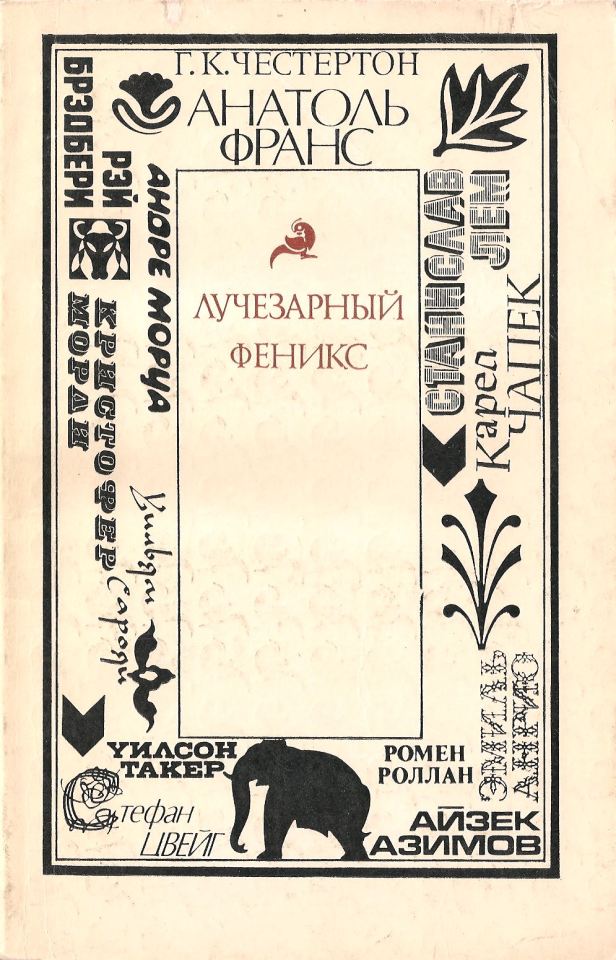
Серия началась с низкого старта — первая книга («Лучезарный феникс») нехороша. В ней собраны тексты зарубежных писателей XX века, причем с заметным креном в фантастику (шесть рассказов из 25). Вероятно, тому виной позднесоветская популярность жанра. Для примера приведу сюжетец от Уилсона Такера: к писателю на дом прибывают агенты ФБР и расспрашивают, как он умудрился рассекретить в своих опусах военные тайны. Писатель ссылается на энциклопедию, которую ему недавно продал коммивояжер. Агенты листают энциклопедию, белеют, сереют и конфискуют ее, а писателю запрещают писать про гостайны. Оказывается, что коммивояжер — засланец из будущего, и продает книги своего времени, в котором тайное стало явным. Спустя некоторое время он приезжает еще раз и еще раз продает писателю энциклопедию. Конец. Ни сти��истикой, ни интересными типажами, которые могли бы вытащить историю из пропасти, Такер похвастаться не может. Остальные представители жанра, включая и венценосного Брэдбери, тоже отписались бесцельно и бесполезно; мысли у них настолько куцые и одичалые, что не сгодились бы и на афоризмы. К счастью, в следующих антологиях фантастика почти что не встречалась.
Неприятно удивил Марк Твен: он выдумал одну остроту на тему: «После смерти Диккенса куча малознакомых с ним людей бросились рассказывать о связях с ним», — а потом с небольшими вариациями повторил ее подряд еще 11 раз (это точный подсчет) и с тем закончил рассказ. Позже сходную тему разрабатывал отечественный сатирик Аркадий Бухов, но справился с ней куда изящнее — см. рассказ «Девяносто листов».
Встречается в «Фениксе» и возвышенное пустословие о важности Книги как передатчика человеческого опыта и так далее, и тому подобное. К сожалению, этот поджанр литературы о книгах очень живуч и проникает во все подобные публикации; ни один из сборников серии сей печальной участи не избежал. В чем видели его ценность редакторы, зачем писатели повторяли друг за другом одну и ту же мысль на разные лады — не знаю и знать не хочу.
Удачи сборника — во-первых, «Мендель-букинист» Цвейга, двухчастный (первая часть — портретная, вторая — трагическая, о столкновении с ужасами военной Европы и победе памяти) рассказ о великом библиографе, человеке книжном без примесей. Помимо вообще красот и драматичности, автор наметил интересную для самостоятельной работы тему: библиофилия как секуляризованная религия. Описанием сект и толков в книгопоклонничестве можно было бы изящно дополнить «Новое сектантство» Эпштейна.
Еще три рассказа подряд тоже дают материал для спекуляций, но сами по себе смастерены хуже. Их уместнее рассматривать как реплики в культурологическом диспуте, сами по себе они только отщипывают кусочки от крупных тем.
Чеснат описывает забавный книжный акционизм: участник библиофильского кружка издал пустую книгу (якобы сборник своих стихов) и передал товарищам, а те, из нежелания портить упаковку, оставили ее нераспечатанной, но нахваливали между собой прямо по Байяру. Минус рассказа в том, что интрига угадывается с самого начала, но ее усердно сберегают к финалу. Лучше было бы и не раскрывать книгу, а только ходить вокруг да около, чтобы из самой авторской позиции было ясно: не читали; а еще можно было бы прервать рассказ на снятии печати, чтобы вышел такой антифинал.
Другой эксперимент описывает Лем: выдуманная компания производит наборы конструкторов из напечатанных текстов классических и бульварных произведений, которые можно смешивать и пересобирать в любой комбинации. Позднее подобным промышляла, например, Кети Акер. Судя по тону, Лему метод нарезок ну очень не нравился, он его сузил до коммерческого мелкопакостничества. На рассказ можно ссылаться как на пример консервативной реакции на авангард.
Третий рассказ из «несамостоятельных» — «Человек с толковым словарем» о книжном Прометее. Гражданин из глухого села привозит из города словарь, первую книгу в жизни — своей и односельчан. Представьте, сколькими способами можно развить этот сюжет! Но беда рассказа в том, что он не многовариантен, а однозначен; читать его полезно как раз для упражнения собственных писательских способностей.
Возвращаясь на абзац раньше — бельгиец Жак Бэр тоже антиавангардничает: в его рассказе герой тщится написать скучный очерк, но мешают перебои с электричеством. Каждый раз, оказываясь в темноте, он задумывается то над одной темой, то над другой, и в результате у него выходит модернистский бесструктурный текст. Герой сдает его издателю и пожинает богатые плоды своего новаторства. Несмотря на явную злопыхательскую те��денцию, рассказ читается, как отчет о проделанной работе, и я только порадовался за неожиданный успех — и Бэра, и его героя.
И еще два отличных текста, оба, правда, не по теме сборника — «Поэт» Чапека (о дешифровке стихотворных откровений; хорош тем, что смешно на протяжении всего рассказа, а не в результате) и отрывок из Сарояна (упражнение в наивном тавтологичном стиле; жутко захотелось его почитать еще).
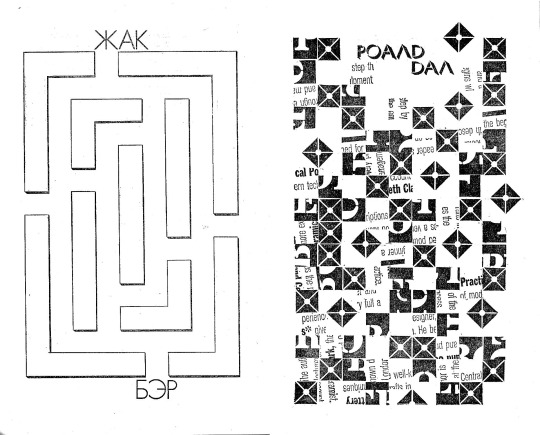
Об оформлении — обложка чудовищная, а «авторские листы» (полностраничные иллюстрации-узоры с именем автора) вполне себе красивые. Верстка скачет от рассказа к рассказу: поля неодинаковые, иногда межстрочный интервал меняется.
***
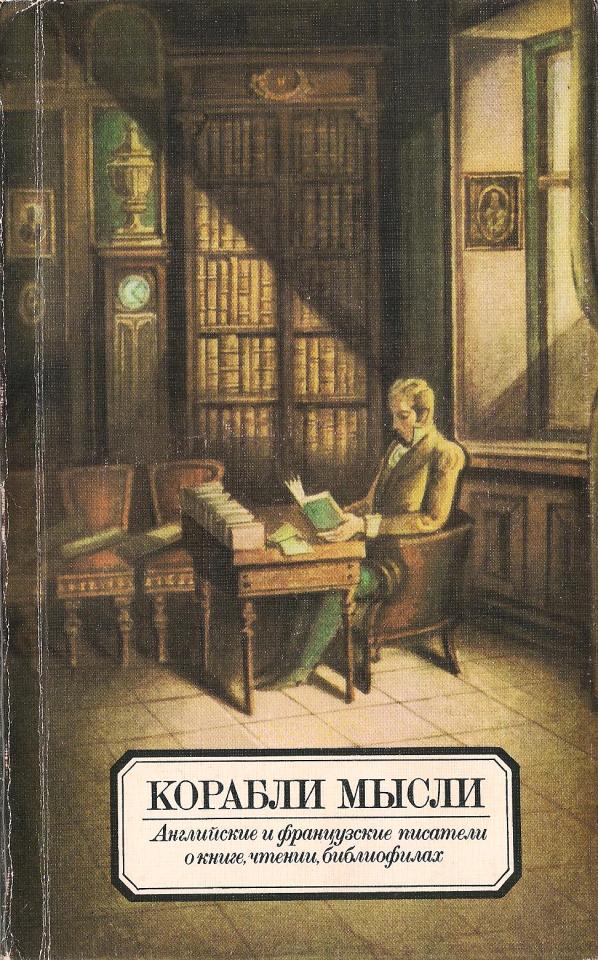
«Корабли мысли» (англичане и французы XVI — нач. XX вв.) меня ввели в какое-то покойное элегическое состояние; сюжетных произведений тут заметно меньше, каких-то ярко плохих или ярко хороших текстов — тоже. Есть ровно и равно удовольствующие Монтень, Вулф, Пруст с рассуждениями о прочитанном и способах чтения; есть ворчание на новые книги (парадоксальное, кстати — ворчуны понаписали в общей сложности уйму текстов, но этим, конечно, лили на мельницу новизне); есть все то же пустословное книгохваление. Сонную идиллию взрывает грубый Свифт — у него и мозги в сливках, и спор паука с пчелой, и жутковатая богиня Критика со свитой. Фантасмагорию он нагородил, чтобы подсобить корешу в литературном споре. Одна из линий в его памфлете — это разговор одушевленных книг; прием неоднократно использовался и зарубежными, и отечественными авторами, в том числе и включенными в серию (например, отечественным Сенковским и зарубежным Ричардом де Бери), он меня всегда почему-то подкупает, как писательская игра в куклы.
Отрывок дурной антиподной сатиры предоставил Вольтер: какой-то порок общества, например, необразованность, возводится в абсолют, и автор рисует целую страну глупцов, которые преследуют образование и образованных; наверное, такое переворачивание с ног на голову само по себе, без дополнений когда-то считалось едким и смешным. Если Вольтеру, как первопроходцу эти шуточки можно простить, то его последователям — уже не получается; повстречать их можно во всех почти последующих сборниках, впредь обойдем молчанием.
У уже упомянутого Нодье в сборник взяли, к сожа��ению, не лучший библиофильский рассказ; он делится на прекрасную «рамку» со спором книгопродавца и просвещенных покупателей и унылую вставную новеллу, которая занимает бóльшую часть текста. Зато эффект получается именно что библиофильский: читать разглагольствования о книгах интереснее, чем собственно сужет.
Кстати, в первом издании сборника Нодье был представлен чудным «Библиоманом», который попал в best of («Листая вечные страницы»). Там тоже проводится мысль о религиозном трепете перед Книгой, особенно искрометна в этом смысле предсмертная исповедь свихнувшегося книжника и священника:
«— Верите ли вы в Пресвятую Троицу?
— Как могу я не верить в знаменитое сочинение Сервета De Trinitate (О Троице — лат.), — вскричал Теодор и сел на постели. — Ведь я ipsimis oculis (своими глазами — лат.) видел, как на распродаже библиотеки господина де Маккарти эта книга, которую сам он приобрел на распродаже собрания Лавальера за 700 ливров, была продана за жалкие 214 франков!»
Жаль, жаль, что «Библиомана» заменили в переиздании.
Из текстов сборника можно выделить кучу разрозненных метких выражений, описаний, тезисов, но в целом он как-то неразличимо благостно жужжит и не обязывает к прочтению.
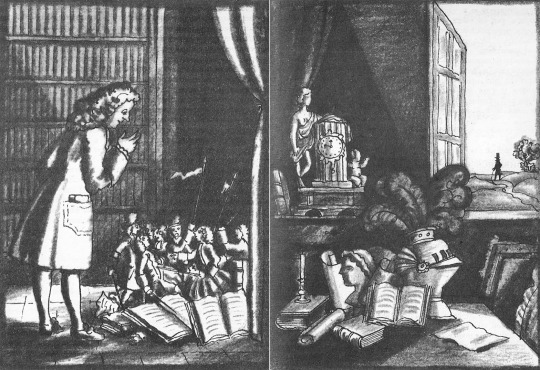
Оформление вполне жантиль, иллюстратор А. Маркевич подпускает немного карикатурного дрожания в линии (с бóльшим нажимом на карикатуру этот стиль он использовал в другой книжке того же издательства — «Занимательная библиография»).
***
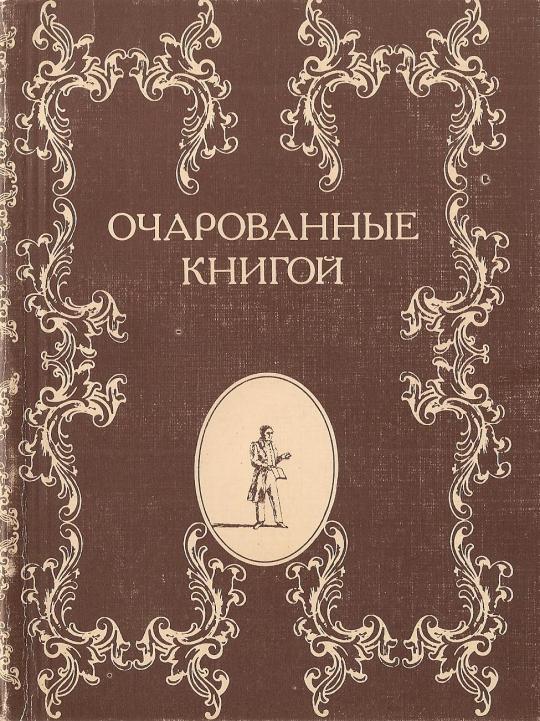
При чтении сборников я обычно выделяю галочками в оглавлении, какие тексты понравились; в случае с «Очарованными книгой» (отечественное дореволюционное) — просто отчеркнул несколько скверных рассказов, подавляющее большинство или замечательные, или хотя бы неплохие. Представлены в нем не только признанные литературные величины, но и малознакомые Березайский, Иванчин-Писарев и пр., они не подкачали. Допушкинские авторы (и сам Пушкин тоже) представлены отрывками или короткими текстами, поэтому читать их стоит залпом, по отдельности они выглядят неполноценно. Вторая половина XIX в. звучит предсказуемо мрачно: Достоевский, Успенский и Лейкин живописуют униженных читателей, Мордовцев намекает на Сибирь для особо вдумчивых посетителей библиотеки, Чехов иронизирует над недообразованностью. Конец XIX и начало XX вв. представлены в основном автобиографически: Мамин-Сибиряк, Горький, Короленко и Ремизов рассказывают о знакомстве и общении с книгами.
И снова в «Листая вечные страницы» проник текст, которого очень не хватает в основном сборнике. Теперь это отрывок из упомянутого Успенского: в нем Глеб Иванович сперва лечится от хандры лубочными романами (это ему было свойственно, как вспоминают современники), а потом случайно натыкается на старый журнал — и все успокоение летит к свиньям, а оскорбленное демократическое чувство бурлит безвыходно.
Отдельно порадовал Михаил Михайлов. До отбытия на каторгу он написал серию из трех библиофильских статей, первую, «Старые книги», переиздали в сборнике. Из нее, как из куста, торчат в разные стороны зарисовки о книжных ворах и библиоманах, прославление забытых авторов и библиографии, краткая история первых издателей и еще Бог знает что. Чрезвычайно увлекательный текст и отличный представитель жанра собственно-библиофильских писаний.
Иллюстраций в книге нет, обложка никаких переживаний не вызывает. Зачем-то страницы мелованные.
***
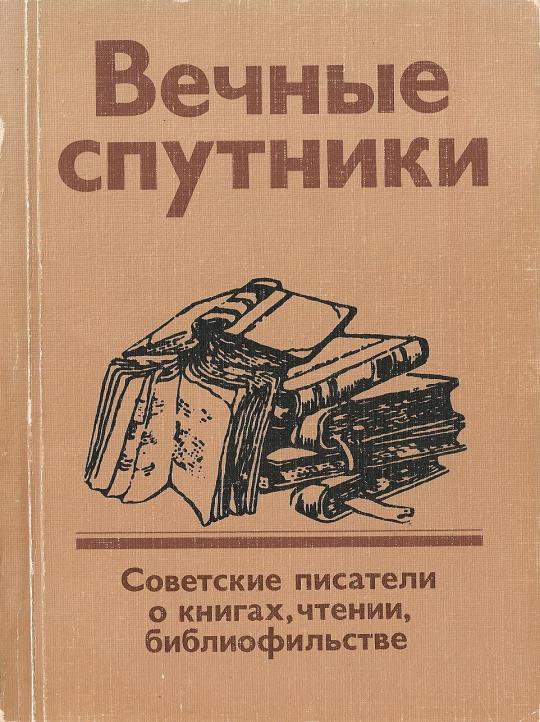
Советские «Вечные спутники» обрадовали не меньше «Очарованных…». Плохих текстов у советских даже меньше (два): Леонов демонстрирует политическую сноровку («…на наших глазах некоторые люди <…> размахивают чадной атомной головней с риском пустить по континентам огненного петуха…»), а от Лавренева в сборник зачем-то пролезла поздравительная статья для местной библиотеки.
Из дивного:
раннесоветский Ефим Зозуля весь рассказ ругается на читателей, с которыми он срать рядом не сядет, усердно их классифицирует (аж 12 видов!), а как доходит дело до идеального читателя — прибегает к апофатике: «Он не заражен предрассудками <…> классических форм… <…> Он не хочет срывать с себя одежд и зря ломать стулья», но по сути говорит мало. Очень хитрый прием, когда критиковать охота, а предлагать нечего;
поздний Шкловский явно испытывал терпение редакторов, писал так рублено и несвязно, что кажется, собирание розановских текстов из обрывков бумаги — это и его метод тоже;
по-хорошему уморительные портреты читателей из народа от Горького: один из них грозил юному Алеше избиением, если тот не научит его читать, а другой «честно сопротивлялся злу жизни и ��покойно погиб в 907-м году»;
Сергей Буданцев емко и напряженно разыграл в рассказе проигранную заранее дуэль интеллигента с властью, а потом повторил этот сюжет биографически и скончался на Колыме;
Луначарский — с журналистским очерком о self-made марксисте из крестьян, книжника-аскета («Я от всего отказался и всего лишился в мире, кроме искания правды»).
В общем, много ожиданных и еще больше неожиданных прекрасностей (именно из этого сборника узнаешь целую охапку новых имен и бежишь с ними по Интернету и в библиотеки) подготовили сборнику почетное первое место. Оформление, как и у «Очарованных…», нулевое, только обложка хорошо горчичная.
***
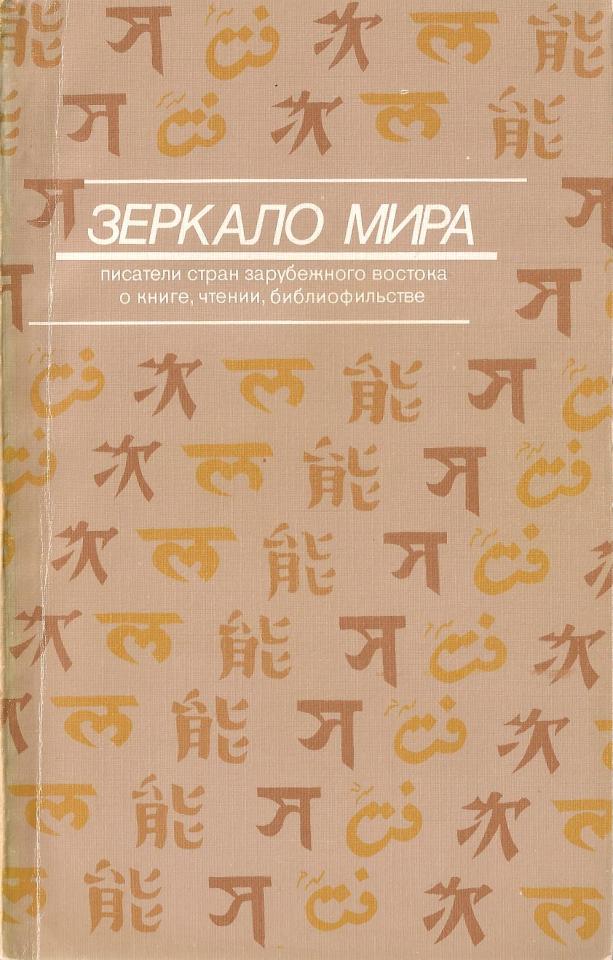
Ох, «Зеркало мира»… Самый выматывающий сборник (восточная литература вообще), на Рабиндранате Тагоре с его гуманным заунынием я чуть не сломался. По какой-то непостижимости древневосточным текстам в книге отведено 40 страниц из без малого 200. Тем печальнее видеть, во имя чего старых авторов так потеснили: ради рекордного количества трюистических рассуждений о Книге, Образовании и Знаниях и ради беззубых попыток в сатиру. Вот пример: дядька подсовывает билеты в кино своему другу-врачу и всем его домочадцам, а сам, когда они уезжают, ворует из дома ценную книжку, возвращается к себе, получает от разгневанной жены этой же книжкой по голове и падает в обморок. Испуганная жена вызывает друга-врача, он осматривает пострадавшего и забирает книжку восвояси. Смешно, правда? Написано все примерно так же лапидарно, как и в моем пересказе, ни тебе высот стиля, ни подмигиваний от автора.
Всех по гнусности переплюнул ливанский классик Михаил Нуайме: в предисловии к автобиографии он приводит письма от фанатов: «… я сейчас преклоняю колена в душе перед алтарем твоего величия и твоего благородства…» и т. п. Самый дурновкусный текст в серии.
Из-под этой громады ужаса еле-еле можно вытащить хорошие тексты — например, главу из жизни японского пролетария Токунага Сунао (как он урывками читал с риском получить тумаков от хозяина), отчеты турецких писателей, Азиза Несина и Фахри Эрдинча, о борьбе с цен��урой и о возвращении книголюба из ссылки на родину. Китаец XVII века Чжан Чао дает установку на достойное времяпрепровождение: «Человек ничему не радуется так, как досугу, но не потому, что бездельничает в это время. Досуг дает возможность читать книги; досуг дает возможность пить вино; досуг дает возможность писать книги. Есть ли на свете радости больше этих!» О собеседовании с духами поэтов и поэтесс занятно рассказывает вьетнамский писатель Нгуен Зы.
Повторюсь, книга отдает тяжестью недоброй. Обложка тоже дерьмо.
***
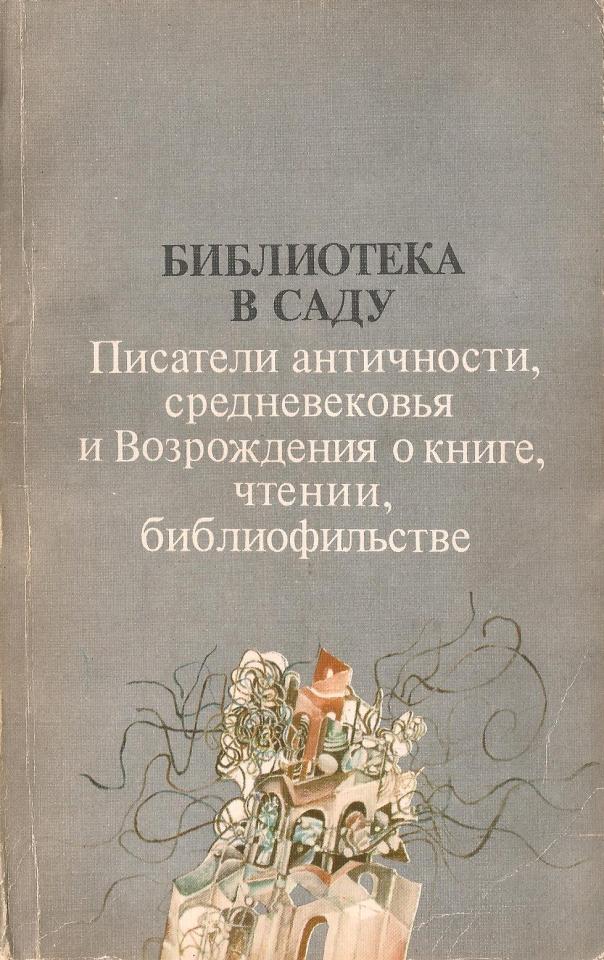
Странная штука приключилась с «Библиотекой в саду» (Античность, Средневековье, Ренессанс): она составлена по большей части из хороших текстов, дурного в ней нет почти Ничего, но впечатление остается обрывочное. Весь античный раздел состоит из фрагментов обязательных для самообразования Платона, Сенеки, Плиния Младшего и пр.; читаешь и только раззадориваешься на тексты целиком. Средневековый раздел из-за советскости сборника — предсказуемо жидкий и непритязательный, ситуацию исправляет только уже всплывавший Ричард де Бери (хотя и его трактат нелишне прочесть полностью). За Ренессанс отвечают тоже слишком крупные для антологии Рабле, Сервантес, Петрарка и Боккаччо. Таким образом, тексты в сборнике либо подстегивают к изучению оригиналов, либо выпадают из памяти, но в совокупности не работают.
Из немногого «просто хорошего» вспоминается, к огромному сожалению, непереведенный почти совсем Хуан Луис Вивес (он внятно критикует всеобщее поклонение древним авторам; кстати, и его, и еще многих участников перевел философ Бибихин — классные лекции и смешной голос) и вполне переведенный Лукиан с фирменными издевательствами — в этот раз над «неучем, который покупал много книг», то есть надо мной.
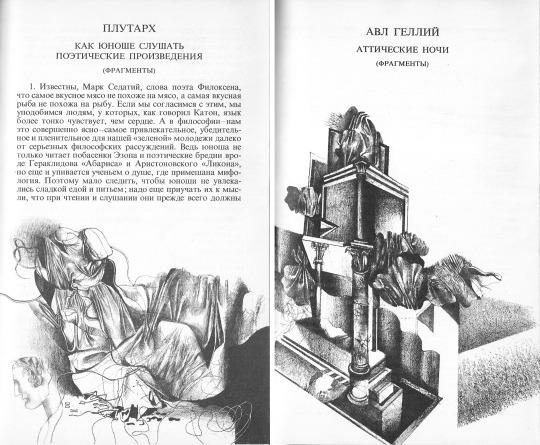
А вот оформление у сборника дивное, художник В. Бегиджанов наваял отличных иллюстраций в своем карандашном стиле. Так что с книгой можно ознакомиться и чисто зрительно, список литературы и так известен.
***
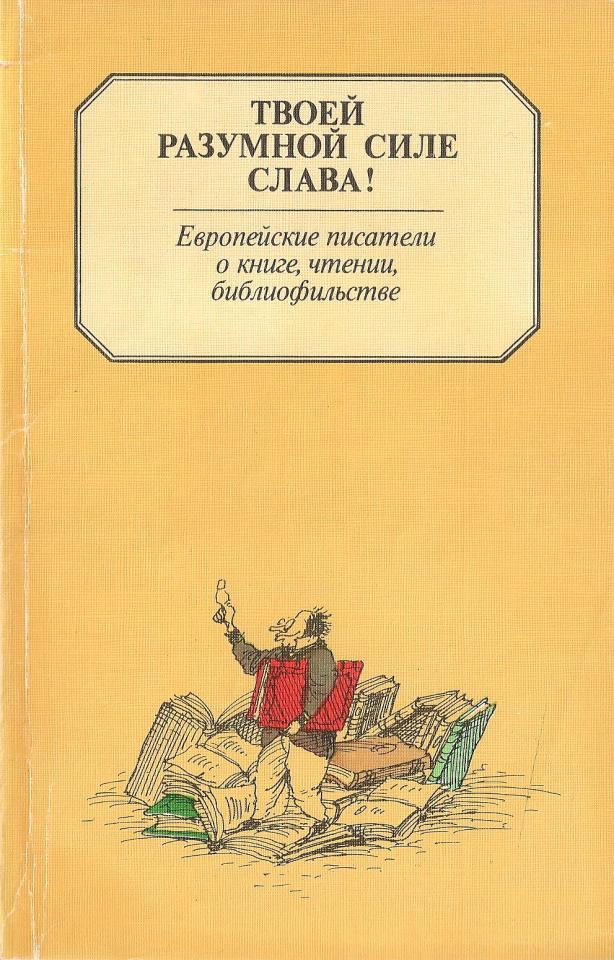
Последний сборник, «Твоей разумной книге слава!» (европейцы (кроме англичан и французов) XVI — нач. XX вв.), оказался и самым необязательным. В основном тексты бледноватые и добродушные… исключая Жан-Поля, который написал заковыристейший физиологический трактат о частях тела писателя как о его инструментах. Почти к каждой строке там нужны примечания, предложения длятся по полстраницы, эпитеты брызжут, при этом суть довольно прозрачная — автор хвалит правую руку, желудок, печень и пр. в ущерб голове, которая обычно физиологами превозносится. Текст настолько хитроумный, что даже выделить более-менее внятный фрагмент из него не получится, нужно читать целиком.
Томас Манн рассуждает о неподсудности писателя — дескать, он перерабатывает реальность и может пользоваться чертами живущих и здравствующих людей, ничтоже сумняшеся (это он отвечал на критику «Будденброков» — его соседи обиделись). Защищался он от нападок, кстати, схожим образом, как много позже Сорокин: «С детских лет меня приводило в бешенство стремление публики вынюхивать личное там, где налицо лишь абсолютное творчество. Я немного рисовал, рисовал карандашом человечков, и они мне казались очень красивыми. Когда же я их показывал людям, надеясь заслужить у них похвалу, они спрашивали: “Кто бы это мог быть?” — “Никто, — восклицал я, чуть не плача. — Это человек, как видишь; я его нарисовал; это просто контур, вот и все!..”»
Гессе написал сентиментальную историю экземпляра Новалиса из своей библиотеки. Там не про книгу, а про разные любовные перипетии, с этой книгой связанные — про Зиночку, про вуаль и про то, как ему хлыстом по роже съездили. Интересный ход и сам по себе миленький текст.
Пару остроумных советов дал Георг Кристоф Лихтенберг, например, урок писательского свэга: «Ни в одном произведении и в особенности ни в одной статье не должно быть видно и следа тех усилий, которых они стоили писателю. Кто желает, чтобы его читали потомки, должен научиться бросать намеки, пригодные для создания целых книг, включать мысли, способные вызвать целые дискуссии, в какую-нибудь незначительную часть главы. Это следует делать так, чтобы казалось, будто их тысячи».
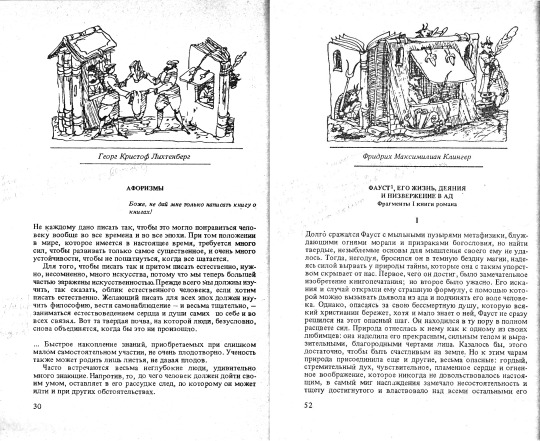
Цитаты вместо россыпи ссылок на тексты — уже показатель того, что из книги выцарапываются отдельные кусочки, а вообще картина не очень приглядная (но и не ужасная). Оформление снова на высоте, небрежноватые зарисовки В. Иванюка сборнику очень к лицу, хотя над обложкой можно было бы и чуть больше постараться.
***
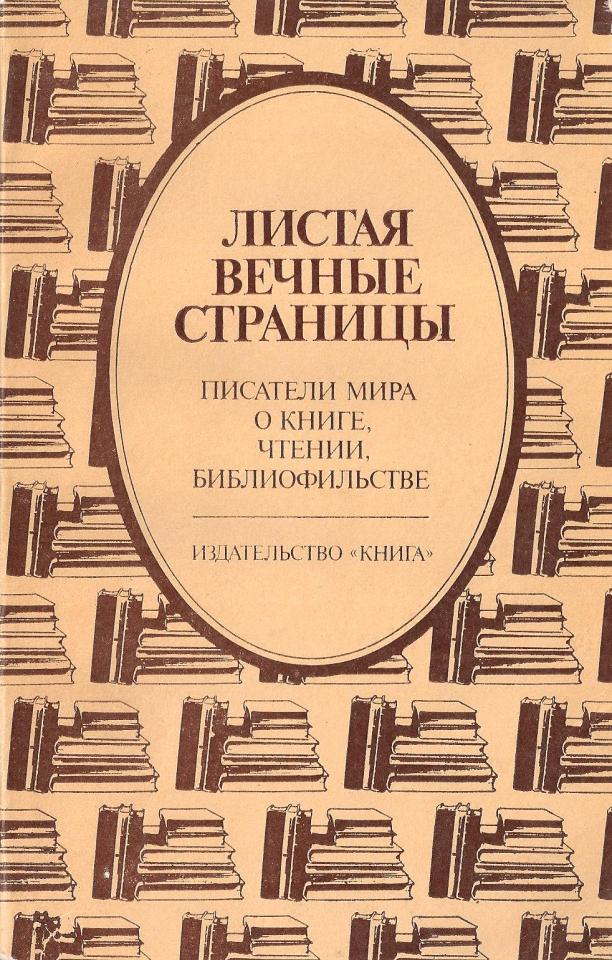
Из неупомянутых ранее уникальных текстов в «Листая вечные страницы» вошел еще один Чехов («История книжного предприятия» — об опростившемся прогрессисте, который думал наводить цивилизацию, а превратился в мелкого лавочника; просто хорошо отделанный рассказ), отрывок «Жизни Арсеньева» (охи и ахи над Пушкиным, все в бунинском духе), дивная «Книжная пыль» Гнедича (хроника медленного книжного потопа, в котором чуть было не захлебнулся брак) и еще один Брэдбери (ни бе, ни ме, ни кукареку).
Со своей задачей: объединять лучшее из серии (в него, кстати, не входят рассказы из «Твоей разумной…», потому что он вышел позже), «Листая…» не справляется, в нем с действительно хорошими текстами соседствуют и проходные, и омерзительно скучные.
***
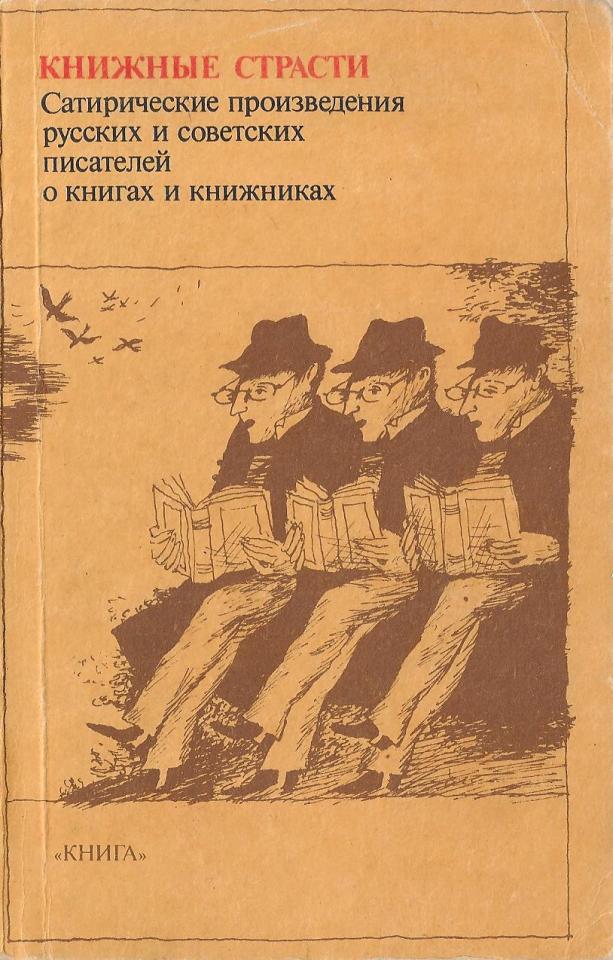
А на десерт — «Книжные страсти», прозопоэтический юморительный букетик. Радует и потрясает охват — сперва Княжнин, Кантемир и разные всякие Нартовы с Тучковыми, потом Сенковский, Полонский, Вяземский, а там уже и Саша Черный с Аверченко, и Михаил Кольцов притом. Есть только один невнятный и ненужный раздел, «Библиофилы смеются», составленный из стихов с библиофильских капустников; он небольшой и погоды не делает. Зато какие тут животонадрывательные перлы!
Хит Бухова «Убийство на ходу» про комментаторское головотяпство;
басня Измайлова «Гордюшка-книгопродавец» про козни букиниста, которому в аду предназначен костер «из кни��, им проданных»;
зверинец петербуржских книгоиздателей и писателей в отрывке из романа Некрасова и Панаевой;
трагедия Василия Курочкина «Природа, вино и любовь», в которой революционная поэзия метаморфирует в «Выбранные места из переписок с друзьями».
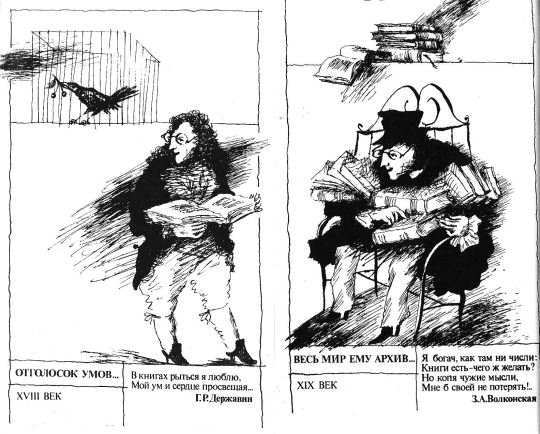
Художник Д. Терехов с задачей тоже справился и украсил книжку густоштрихованными человечками, даже жаль, что их мало (только в виде заставок к разделам, отдельных иллюстраций нету). Рад, что я сдюжил, и все закончилось так хорошо!
Общее впечатление и рейтинг
Из семи книг можно выжать один, но очень хороший сборник текстов на 30, или два-три, разбавив лучшие просто занимательными. Много безвредных и бесполезных текстов — при чтении ясно, что они не особо нужны, но и не ужасны. Плохие по разным причинам тексты встречаются в каждой книге, но в разном соотношении к общему числу.
Перечень сборников от лучшего к худшему:
«Книжные страсти» — разлюбезные, но внеконкурсные, поэтому без номера.
«Вечные спутники. Советские писатели…»
«Очарованные книгой. Русские писатели…»
«Корабли мысли. Английские и французские писатели…»
«Библиотека в саду. Писатели Античности, Средневековья и Возрождения…»
«Твоей разумной силе слава! Европейские писатели…»
«Лучезарный феникс. Зарубежные писатели… XX век»
«Зеркало мира. Писатели стран Зарубежного Востока…»
Серия из-за неровностей в составлении сборников и несогласованных редакторских стратегий распадается на отдельные книги; повторять мой подвиг и читать всю целиком я бы не рекомендовал. С задачей репрезентовать «книжный» пласт той или иной культуры/того или иного временного периода справились не все антологии. Хотя, как и говорил в начале, даже самые непритязательные книжки смогли-таки предложить что-то полезное, познакомили с несколькими новыми авторами и способами организации текстов. Нередко заявленная тема в них раскрывалась через рассуждения о писательстве, что выбивается из общего «читательского» духа серии — но жаловаться на это неохота, многие чудесные тексты иначе бы в сборники не пролезли. Подозреваю, что составительская работа могла бы быть проведена лучше в наше слабоцензурное время — но книги о книгах ныне в н��брежении, что, в общем, закономерно. Сравнительно большие тиражи околобиблиофильской литературы в позднем СССР — это ошибка плановой экономики, которой мы еще можем успеть воспользоваться. В будущем старые переплеты и желтоватые страницы никто всенародно не воспоет, нечего и думать.
9 notes
·
View notes
Text
Иван СМЕХ о книге "ВРАГ НАРОДА. Воспоминания художника" Валентина Воробьёва
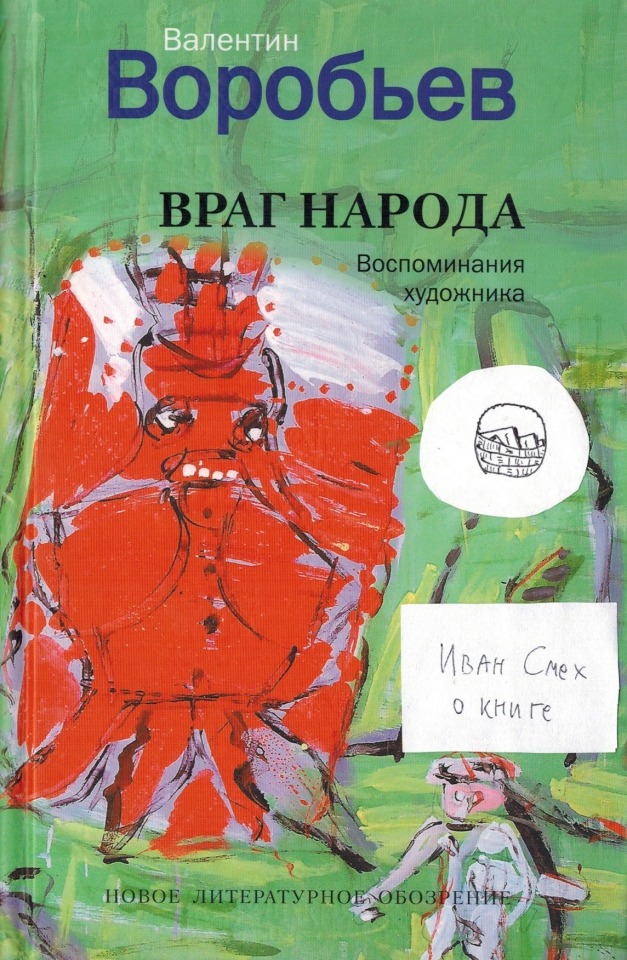
Мемуарная книга художника Валентина Воробьёва ВРАГ НАРОДА охватывает шесть десятилетий XX века – начиная с сороковых годов и заканчивая девяностыми. На её страницах можно встретить и дореволюционных деятелей культуры, и советских, и даже современных, т.е. активно присутствующих в нынешнем инфополе. По стилю и подаче воспоминания Воробьёва воспринимаются более чем свежо, при этом писательский талант очевиден и с точки зрения классических (если точнее – модернистских) критериев. В своей книге Воробьёву удалось осуществить мощнейшую СВЯЗЬ ВРЕМЁН, выстроив хотя бы на примере своего частного жизненного опыта единый вектор развития отечественной культуры и традиции XX века. Задача сложнейшая и почти небывалая, но Валентин Воробьёв с ней управился без особых затруднений!
Первая половина книги ВРАГ НАРОДА посвящена жизни художника в СССР – от рождения в 1938 году до эмиграции в 1975-м. Название книги отражает его взаимоотношение с государством – чужеродность Воробьёва окружающей действительности носит самый радикальный характер, хотя назвать его диссидентом не удаётся, и никаких прямых репрессивных мер на себе Валентин Воробьёв не испытал. Он просто существовал вне господствующей системы ценностей и взглядов, относясь к ним с иронией и сарказмом, спокойно занимаясь своим делом и выстраивая собственный жизненный путь.
Такой угол зрения и позволяет Воробьёву заниматься постоянной демифологизацией. Поначалу – исторической, на примере БРЯНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, возникшей на оккупированной немцами территории (по поиску в интернете выходит, что это назва��ие не закрепилось и не используется в современных источниках, вместо него предлагается ЛАКОТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ), и творчества знакомых ему советских военных писателей. Затем – на примере деятелей культуры: постепенно перебравшись в Москву и влившись в богемные круги, Воробьёв обрёл удобнейшую площадку для наблюдения. Его книга пестрит именами забытых и известных, официальных и подпольных деятелей культуры, и все эти люди описываются Воробьёвым с неожиданных сторон. Его наблюдения сильно разнятся с общепринятыми легендами, и пропасть между двумя лагерями часто оказывается довольно случайной: идеологичность и официальной стороны, и романтического подполья упорно развеивается и оспаривается Воробьёвым, в то же время объединяющим фактором становится схожесть стратегий: бесконечные взаимные склоки и карьеризм.
В пятидесятые в культовых советских явлениях культуры Воробьёв принимает участие как сторонний зритель – посещая первую выставку работ Пикассо (1956), ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ (1957) или описывая словесный разгром Хрущёвым выставки авангардистов (1962) по дошедшим сведениям. В это же время он обучается во ВГИКе на художника-оформителя (у Владимира Фаворского и Юрия Пименова), описав затем в мемуарах жизнь в культовом общежитии и своё знакомство с его тогдашним постояльцем, писателем Шукшиным. После исключения из ВГИКа Воробьёв уже становится непосредственным участником культурного процесса, публично дебютируя на выставке неофициальных художников в Тарусе (1961) и спасая пылящийся на дачном чердаке архив работ амазонки авангарда Любови Поповой.
В шестидесятые подпольные художники постепенно обретают каналы сбыта своих картин – для этого исторического периода Воробьёв поддерживает использование термина ДИПАРТ, так как покупателями оказываются дипломаты западных стран. Наиболее ярким представителем дипарта стал художник Анатолий Зверев, а одним из самых влиятельных покупателей – советский грек Костакис (хотя он и не был дипломатом). Ряд деятелей нонконформиза начинает промышлять перепродажей икон, антиквариата и различных вещей. Формируется некоторая инфраструктура, в которой Воробьёв чувствует себя как рыба в воде и вполне себе обретает финансовый успех (иногда официально подрабатывая оформителем или иллюстратором книг, но больше зарабатывая продажей картин), параллельно меняя места жительства и любовниц. Советская жизнь описывается Валентином Воробьёвым так, будто перестройка наступила на двадцать лет раньше. Круг его знакомств был чрезвычайно широким: семейство Штейнбергов, поэт Игорь Холин, лианозовцы и смогисты, художники Владимир Янкилевский, Михаил Гробман, Илья Глазунов – всё это лишь небольшая его часть. Но в семидесятые круг постепенно начинает сужаться – первым в Израиль эмигрирует Гробман (1971), а вслед за ним начинается целая волна. Воробьёв, понимая, что числящиеся за ним нарушения закона копятся – спекуляция, фарцовка, сношение с иностранцами, – сам склоняется к идее эмиграции и начинает готовить почву, призывая к женитьбе свою подругу-эмигрантку. После участия в известных БУЛЬДОЗЕРНОЙ (1974) и ИЗМАЙЛОВСКОЙ (1975) выставках Воробьёву удаётся осуществить и женитьбу, и отъезд во Францию.
Во второй части мемуаров угол зрения художника меняется. Складывается ощущение, что он распрощался с разгульной жизнью и стал примерным семьянином. Не снискавший востребованности на Западе как художник, но материально обеспеченный за счёт новых родственников, Воробьёв погрузился в рисование, а вместо описания собственной жизни сосредоточился на художественной хронике. Так как в эмиграцию отправлялись в первую очередь амбициозные и творческие люди, их концентрация там достигла предельной плотности, что отразилось и на количестве склок и конфликтов. Началась реальная БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ и место под солнцем, которую Воробьёв имел возможность наблюдать со стороны. О ряде деятелей эмиграции Воробьёв отзывается с уважением – как художников и людей он хвалит Льва Нуссберга, Лидию Мастеркову, Василия Ситникова, как упорных организаторов – Дину Верни, Михаила Гробмана, составителя девятитомной антологии новейшей русской поэзии Константина Кузьминского. О других высказывается осуждающе и пренебрежительно – например, прозу Юрия Мамлеева он описывает в карикатурном ключе, Эдуарда Лимонова называет ЕБАНУТЫМ ЗАКРОЙЩИКОМ, над художником Эдуардом Штейнбергом иронизирует за его ДИАЛОГ С МАЛЕВИЧЕМ, подчёркивает незначительность Оскара Рабина и Эрика Булатова. Вторая часть мемуаров Воробьёва несколько разваливается, превращаясь в коллаж из отдельных статей и заметок, но читается всё равно живо и с интересом. Впоследствии Воробьёв использовал ряд кусков из этой части в своей третьей книге ЛЕВАКИ – галерее портретов деятелей культуры. ВРАГ НАРОДА же завершается скептическим отношением к политическим процессам, происходящим во время перестройки и после развала СССР, однако скептицизм проводится по художественной линии – например, Воробьёв ловко критикует процесс создания герба нового государства, а также отношение власти к культурному наследию подпольных художников, выработки которого автор был свидетелем.
Пестрота восьмисотстраничной книги художника – прямо-таки поразительна, количество самых неожиданных фактов зашкаливает, при этом ВРАГ НАРОДА умудряется решить целый ряд культурных задач. Об осуществлении СВЯЗИ ВРЕМЁН и работе с мифами я уже упоминал – добавлю только, что развеивание мифа о романтическом подполье дополнительно ценно тем, что Воробьёв описывают некую потаённую МОДЕЛЬ существования культуры, которая может с лёгкостью проецироваться и на иные культурные ситуации – вплоть до современных. Далее, конечно, идёт фиксирование фактов, свидетелем которых был сам художник, это прямая мемуарная ценность. И ещё одна блестяще решённая задача: Воробьёв не только предлагает свой вариант истории определённого пласта культуры, художественного подполья третьей четверти XX века, но и сразу же объясняет, почему предлагаемый вариант не закрепился, вскрывая перекосы, вызванные карьеризмом или его отсутствием. Критикуя ряд художников, признанных сегодня институциями (Булатов, Рабин), и параллельно хваля других, не добившихся славы (например, Лев Нуссберг не удостоился даже страницы на русскоязычной ВИКИПЕДИИ, хотя его художественные достижения описаны Воробьёвым исключительно убедительно), Воробьёв всё-таки основывается на общих и объективных творческих критериях – и такой взгляд оказывается исключительно ценным. В итоге мемуары художника можно сразу же воспринимать как живо написанные и увлекательные наброски к учебнику.
Казалось бы, современная публика должна была бы встретить эту книгу с распростёртыми объятиями и зачитываться ей. С точки зрения читателя ВРАГ НАРОДА ценен как уникальный путеводитель по малоизвестному и ценному пласту культуры. При этом советское подполье можно расценивать и как отечественный вариант КОНТРКУЛЬТУРЫ – и КОНТРКУЛЬТУРНОЕ произведение Воробьёва (к такому восприятию подталкивает и общее мировоззрение Воробьёва, и местами близкая к перестроечной рок-журналистике стилистика текстов Воробьёва, доходящая даже до ЖАРИКОВЩИНЫ) – это не графоманские попытки калькировать западную тематику, а реальный артефакт. С точки зрения критиков – содержательную и блестяще написанную книгу логично было бы поднять на щит как положительный пример современной литературы и дать ей, например, премию БОЛЬШАЯ КНИГА, подавляющее большинство реальных номинантов которой ВРАГ НАРОДА затыкает за пояс. С точки зрения художников – книга о малоизвестных широкому читателю страницах истории их движения должна быть очевидно радостным и положительным событием. В общем, работу Валентина Воробьёва должны были бы ждать самое широкое признание и поддержка. Но всё вышло, конечно, с точностью до наоборот.
Книга ВРАГ НАРОДА была выпущена издательством НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, специализирующимся в том числе на издании книг о современных художниках. Эта их линия, по всей видимости, привлекает лишь узкий круг связанных с институциями читателей. В такой среде, возможно, ВРАГ НАРОДА и наделал небольшого шума, но вместо активного распространения и нахваливания последовало замалчивание. Литературная среда, сочтя, что к её области интересов воспоминания художника не относятся, почти не обратила на книгу внимания – несколько мелких заметок сразу после выхода мемуаров (положительная в НОВОЙ ГАЗЕТЕ и презрительная в КОММЕРСАНТЕ), и всё. Самостоятельного интереса читатели не проявили – тем более что Воробьёв как художник в России остался неизвестным, его страница на ВИКИПЕДИИ отсутствует, работы можно найти в интернете в небольшом количестве, а единственная, кажется, современная выставка прошла в небольшой галерее в 2017 году. Две тысячи экземпляров ВРАГА НАРОДА всё-таки оказались распроданными, но кто стал их обладателем – не могу даже представить. В моём кр��ге общения, всё-таки активно следящим за современной культурой в различных её проявлениях, никаких отзывов или упоминаний произведения Воробьёва я не встречал. После ВРАГА НАРОДА (2005) в том же НЛО вышли ещё две его мемуарных работы – ГРАФОМАНЫ (2008) и ЛЕВАКИ (2012). Обе эти книги были выпущены в два раза меньшим тиражом, и всё-таки в 2019 году я обнаружил их на распродаже по 108 руб. (так, кстати говоря, я и открыл для себя Воробьёва), а отдельные их копии до сих пор попадаются мне на глаза в независимых книжных магазинах. В общем, механизмы культуры, описанные Валентином Воробьёвым, продолжают работать! Сам же художник до сих пор живёт во Франции, где не так давно справил своё восьмидесятилетие, и продолжает писать и рисовать.
5 notes
·
View notes
Text
Иван СМЕХ. Сидеть и читать. О прочтении некоторых книг писателя Дмитрия Данилова
Публикуем большую статью Ивана Смеха о современном писателе Дмитрии Данилове, скрытым и неочевидным образом носящую характер небольшого манифеста.

Иван Смех: эту статью я почти целиком написал в 2017 году, однако по ряду причин отвлёкся и не довёл до конца, хотя на мой вкус она получалась важной и удачно нехарактерной. Наконец-то довёл теперь, в 2020 году. Когда был написан какой кусок – станет понятным из самого текста.
О писателе Дмитрии Данилове я узнал из сборника статей Романа Сенчина ТЁПЛЫЙ ГОД ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА. Роман Сенчин пишет хорошо, и пишет он о многих современных русских писателях, но после его хороших статей читать упомянутых писателей обычно не хочется, напротив, понимаешь, что можно и не читать, а вот Дмитрия Данилова захотелось, он показался интересным. Исходя из статьи Сенчина получалось, что надо бы прочитать роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. В продаже романа ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ не оказалось, и другого упомянутого Сенчиным романа, ОПИСАНИЕ ГОРОДА, также не оказалось, поэтому я решил отложить прочтение, а имя Дмитрия Данилова тогда позабыл – потому что трудно запомнить имя Дмитрия Данилова. Потом я встретил писателя Дмитрия Данилова на неких литературных чтениях. У него тогда вышла книжка ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА, и он озвучивал на чтениях небольшой фрагмент из неё. Полный человек в бесплатной футболке из музыкального магазина ДОМ КУЛЬТУРЫ читал что-то невнятное на очень скучную тему. Действительно, вещи поважнее футбола есть, а вот менее важные придумать трудно, так что Дмитрию Данилову не удалось тогда меня нисколько заинтересовать. Мероприятие я посещал, чтобы посмотреть на писателя Романа Сенчина и писателя Владимира Козлова, а имя Дмитрия Данилова я даже на чтениях не вспомнил. Осознание того, что это был Дмитрий Данилов, пришло значительно позже. Потом, после литературных чтений, я разговаривал со своим другом, поэтом Иваном, из разговора узналось, что Иван поучаствовал в некоем конкурсе, целью которого было проживание в коломенском музее АРТКОММУНАЛКА – для занятий творчеством. Устроители признали Ивана достаточно талантливым, чтобы поселить у себя, и он планировал отправиться в Коломну в конце года, а разговор был, наверное, в начале года. Ещё Иван упомянул, что до него коломенском музее АРТКОММУНАЛКА будет жить хороший писатель Дмитрий Данилов. Через некоторое время я встретился с музыкантом Константином, которому обещал дать почитать книгу ЧЁРТОВО КОЛЕСО Михаила Гиголашвили, а Константин мне в ответ решил подарить выпущенную при его участии книгу Дмитрия Данилова ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ. Я сказал, что это отличный подарок, потому что я как раз хотел почитать писателя Дмитрия Данилова, но всё никак не удавалось. Тогда Константин временно снабдил меня ещё одной книгой Дмитрия Данилова – тем самым ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, пояснив, что книга эта очень хороша, так что процесс чтения Дмитрия Данилова надо начать с неё. Я поблагодарил Константина и поставил две книги Дмитрия Данилова на полку, но почитать их всё никак не выходило. Позже я обнаружил, что на книге ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ даже имелась подпись Дмитрия Данилова, которая гласила: «Константину, с радостью!». Меня это обрадовало.
Потом я как-то раз зашёл в книжный магазин, где раньше продавцом работал поэт Иван. Оказалось, что в этом магазине в продаже имеется роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Это было издание в мягкой обложке стоимостью всего 115 рублей, так что я решил немедленно его приобрести, чтобы после возвращения экземпляра Константину ожидаемо хороший роман остался у меня дома. Но время для его прочтения всё ещё не пришло. Зато я к тому моменту уже крепко запомнил имя писателя Дмитрия Данилова. Спустя, наверное, два месяца, ко мне в гости зашел критик Игорь, и речь зашла о писателе Дмитрии Данилове. Критик Игорь рассказал, что как-то раз незапланированно встретил Дмитрия Данилова в городе, тот сидел пьяным на автобусной остановке и спал. Игорь его разбудил, после чего Дмитрий Данилов начал много смеяться от неловкости ситуации, а Игорь начал смеяться в ответ. Так они и разошлись, обменявшись лишь смехом. А ещё Игорь рассказал мне, что у Дмитрия Данилова есть отличная книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ – о том, как Дмитрий Данилов в девяностые ездил на электричках и торговал чаем, чёрным и зелёным. Вскоре я зашел в гости к поэту Ивану, который к тому времени успел уже даже вернуться из Коломны, и обнаружил у него некоторое количество книг Дмитрия Данилова. Среди них была старенькая, в мягкой обложке, ДОМ ДЕСЯТЬ, также с подписью. К сожалению, содержание подписи я не запомнил, зато узнал, что Дмитрий Данилов входил в объединение ОСУМБЕЗ поэта Мирослава Немирова, весомого деятеля культуры. Также у Ивана имелась книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, изданная в хорошей серии УРОКИ РУССКОГО. Я взял её почитать. После завораживающей истории критика Игоря, а также нахождения книги ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ в печатном виде, откладывать прочтение Дмитрия Данилова оказалось невозможным. И вот, наконец, пройдя столь длинный путь, я приступил к чтению Дмитрия Данилова! Ниже последует рассказ о том, какие впечатления я получил от этого проце��са.
В книге Дмитрия Данилова ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ из серии УРОКИ РУССКОГО 320 страниц, и после слов критика Игоря я ожидал, что текст о продаже чая будет занимать все 320 страниц, но вышло иначе. ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ – это повесть на 85 страниц, входящая в состав книги ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ; остальные 235 страниц занимают ещё две повести, ДЕНЬ ИЛИ ЧАСТЬ ДНЯ и ДОМ ДЕСЯТЬ, и ряд рассказов. На заднюю обложку книги зачем-то поместили отзыв о Дмитрии Данилове плохого писателя Захара Прилепина, хотя в 2010 году, когда была издана книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, было ещё не ясно, что он станет плохим писателем, и только интуиция могла это подсказать издателям. Впрочем, это не так важно.
В процессе чтения выяснилось, что всё-таки не вся повесть ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ посвящена торговле чаем. Она начинается с того, что герой Дмитрия Данилова (которого в дальнейшем я буду называть Дмитрием Даниловым, или просто Дмитрием, или просто Даниловым) не продаёт чай, но работает в информационном агентстве. От него требуется сочинять по одной статье за ночь, с чем Данилов легко справляется за час, а всю оставшуюся ночь смотрит телевизор. Вскоре Данилову сообщают, что информационное агентство испытывает финансовые трудности и не может выплачивать ему зарплату, так что Дмитрий увольняется из информационного агентства и устраивается в контору, торгующую открытками. В его обязанности входит объезжать подмосковные города и предлагать местным книжным купить какие-нибудь открытки из каталога. Данилов объезжает ряд городов, но ему толком не удаётся ничего продать, он покидает эту работу и только тогда устраивается продавцом чая. В офисе компании, продающий чай, выдают чай на реализацию, а человек сам решает, где он будет реализовывать товар. Хотя чай выдают в Москве, Данилов решает, что продавать его стоит в подмосковных городах, потому что там нет конкуренции. Решение оказывается верным, чай покупают хорошо, и Данилов начинает кататься по 4-5 дней в неделю с полной сумкой товара. Ему нравится эта работа, потому что нравится кататься на электричках и нравится смотреть на подмосковные города. О самих городах он пишет подробно. Через какое-то время работа ему надоедает, но впечатлений от неё осталось много – почти на целую повесть хватило.
В общем, повесть ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ написана очень хорошо и даже замечательно, она не столько о торговле чаем, сколько о герое и его мировоззрении (человек, наслаждающийся прогулками и созерцанием), особенностях времени (поиск работы и прочие детали девяностых) и городах (вплоть до Рузы, Вереи и Обнинска). Данилов разработал свой яркий стиль, который для многих почему-то затмевает содержание, но на деле проза Данилова крайне содержательна. Стиль украшает содержание, и в итоге выходит совсем замечательно, можно сказать, идеально. Настоящее удовольствие читать повесть ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ Дмитрия Данилова.
Вторая повесть в точности соответствует названию и рассказывает об одном дне или части дня Дмитрия Данилова, а ДОМ ДЕСЯТЬ представляет из себя воспоминания о запахах детства – районе, жителях, зданиях, мальчишеских играх и прочем. Лирично, легко и радостно. И рассказы также очень хороши и не повторяют повести, но дополняют. По итогу книгу ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, вышедшую в серии УРОКИ РУССКОГО, стоит причислить к разряду шедевров.
Роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ начинался скучнее, язык суховат, выбранные для описания события менее интересны. Но вскоре прояснилась концепция книги, выяснилось, что Данилов решил описать каждый свой день в течение года, чем он занимался и какие действия совершал. Вроде дневника, но не совсем. Основные занятия Дмитрия Данилова в этот период: работа над составлением текстов для книг коммерческих компаний и интервьюирование чиновников, посещение литературных вечеров, посещение православных мест и молитва, игра в футбольный менеджер на неком сайте, путешествия, фотографирование, выпивание некоторого количества алкогольных напитков, перемещение по городу, бытовые дела, сон. Данилов пишет книгу на ходу, и описание своих будней подстраивает под некоторые зарождающиеся в процессе написания идеи, отражая это в тексте. Это интересное чувство – когда ход создания книги настолько прослеживается внутри неё самой. Вскоре к стилю ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ привыкаешь, начинаешь лучше считывать добрый юмор Данилова и с удовольствием погружаешься в его прозу. Тем более что растягивать книгу он не стал, и когда занятия становятся слишком однообразными, Данилов начинает их ловко комкать. Так читатель получает редкую возможность за несколько часов чтения прожить целый год жизни вместе с автором. Такое ускорение времени настраивает на самый философский лад.
Я дочитал роман Дмитрия Данилова ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, что вдохновило меня мгновенно приняться за сочинение настоящей заметки. Однако на сегодня у меня было запланировано посещение книжного магазина ЦИОЛКОВСКИЙ с целью сдачи в букинистический отдел некоторых ненужных мне книг. На время поездки я прервал написание статьи и продолжил по возвращению.
Если писатель мне понравился, то я предпочитаю читать его до тех пор, пока не прочитаю всё написанное им, либо же пока я в нём не разочаруюсь. Так как Дмитрий Данилов мне понравился весьма и весьма, то оказавшись в книжном магазине ЦИОЛКОВСКИЙ я решил приобрести ещё две его вещи – СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ и ту самую ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Заодно сегодня же я заказал с рук его книгу ОПИСАНИЕ ГОРОДА, которую нужно будет забрать при встрече с продавцом в метро послезавтра. Таким образом оказалось, что когда я начинал писать этот текст, у меня на руках было только три книги писателя Дмитрия Данилова, а к настоящему моменту уже пять. Полистав книгу ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, я узнал, что там содержатся журналистские путевые очерки Данилова, написанные для некоторого печатного издания. Мне показалось, что эта книга является не столь важной в творчестве писателя, и ознакамливаться с ней стоит после прочтения остальных. Я отложил её на потом. Теперь мне предстоит прерваться в написании настоящей статьи и вернуться к ней, когда новоприобретённые книги будут мной прочитаны. Тогда я буду лучше знать творчество Дмитрия Данилова и смогу говорить о нём в целом и более подробно.
П.С. А ещё я хотел сегодня упомянуть, что дизайн книги ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ никак не связан с содержанием, а описание на задней обложке составлено очень плохо, что, конечно, не является виной Дмитрия Данилова. Но только не нашел в тексте места, где это упомянуть, поэтому вставляю в П.С. А вот у книги ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ дизайн хороший, а описание на задней обложке тоже плохо, но не очень. А у ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ в мягкой обложке и описание, и дизайн лучше, чем у него же в твёрдой, они не плохи, но всё же и не хороши. Ну что ж поделать.
05.02.17
Если посмотреть на обложку книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА издалека, то смотрится она приятно – небо, белый голубь и футбольный мяч. Но если взглянуть поближе, начинают возникать вопросы. Зачем при оформлении было использовать столько разных шрифтов? Что значит подпись «Редактор Качалкина» под именем Дмитрия Данилова? Что Дмитрий Данилов – это человек, который так замечательно отредактировал Качалкина, что прославился этим? Человечество не знало лучшей редакторской работы, а теперь этот бог редактирования написал собственную книгу? Или что книгу Дмитрия Данилова редактировала некая богиня редактирования Качалкина, которой стоит лишь прикоснуться к книге, чтобы она стала шедевром? Но едва ли Дмитрий Данилов нуждается в литературном редакторе, пусть и столь талантливом, кажется, судя по предыдущим романам, он и сам способен написать хорошо. В общем, совсем не ясно, зачем под именем Дмитрия Данилова было писать «Редактор Качалкина». А тут ещё оказывается, что на мяче изображена какая-то лужица, похожая на белок от разбитого яйца. Только по сравнению с мячом она очень маленькая, как будто яйцо было перепелиным. Или это нагадил белый голубь, парящий в небе? Но его от мяча отделяет добрый десяток метров, едва ли он умеет столь прицельно гадить. К тому же, на мяче пятно исключительно белого цвета, а птичий помёт обычно выглядит как чёрная субстанция с белой лужицей вокруг, но ничего чёрного на мяче не видно. Может, кто-то прилепил на мяч жвачку? Или, например, жвачка лежала на асфальте, а во время игры мяч упал на неё, вот она и прилипла. Но тогда бы он, вероятно, потом покатился и жвачка бы запачкалась от пыли, асфальт-то обычно пыльный, и стала бы чёрной или серой, но никак не белой. В общем, решительно невозможно понять, что это за лужица на мяче. Далее, снизу обложки расположен белый прямоугольничек, в котором помещены слова: «Жизнь – вот она, а футбол – футболом!». Не ясно, что должны сообщить читателю эти слова. К названию книги они ничего не добавляют, и вообще звучат довольно глупо. Свыше того, белый прямоугольничек портит композицию картинки, нанесённой на лицевую сторону обложки. И зачем этот восклицательный знак в конце? Обложка с небом и белым голубем производит умиротворяющее впечатление, а тут тебе что-то восклицают, и сразу перестаёшь умиротворяться. А ещё на обложку помещены английские буквы “ok” с палочкой, приставленной к букве “о” слева. Что это значит? Что книга «ок», т.е. хороша? Но это должен решать сам читатель. Или же что книга издана при финансовом участии сайта «Одноклассники»? Но вроде бы у них другой логотип. К тому же, “ok” с палочкой, приставленной к букве “о” слева помещены также на корешок книги. Значит, это что-то важное! Ну, “ok”, “ok”, к чему бы это… Видимо, это должно б��ть названием издательства. Если заглянуть на заднюю сторону обложки, то там будет надпись «Новый Мир», которая однозначно является логотипом журнала «Новый Мир». Создаётся ощущение, что «Новый Мир» и издал книгу. Но ещё там рядом, в прямоугольничке со штрихкодом, помещено изображение фигурки человека с арбалетом. А под ней надпись – «Рипол классик». Да, такое издательство я знаю! Значит, буква “о” с приставленной слева палочкой может являться буквой «р». Но почему тогда рядом с ней не русская «к», а английская “k”? Опять загадка! Если буквы английские, то “pk” будет звучать как «пк», а не «рк». Очень странно. Остаётся только вариант, что это подпись редактора Качалкиной, например, когда-то давно она подписывалась как «редактор kachalkina», но когда стала звездой редактуры и имя её превратилось в, фактически, бренд, она стала подписываться просто как «рk»? Пожалуй, эта версия всё объясняет. Но остаётся последний вопрос. На задней стороне обложки, помимо слов «Новый Мир» и прямоугольничка со штрихкодом, фигуркой человечка с арбалетом и названием издательства, содержится ещё фотокарточка автора, имя автора Дмитрия Данилова, краткая информация о нём и описание к его произведению ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Про Дмитрия Данилова указано, что он является «прозаиком, поэтом, редактором», что может намекать на то, что это всё-таки он замечательно отредактировал некоего Качалкина, чем прославился. А может и не намекать. Далее, про писателя Дмитрия Данилова написано дословно следующее:
• финалист российской национальной литературной премии «Большая книга» и премии «Новая российская словесность»
• финалист премии Андрея Белого
• с ним не скучно;)
Выглядит это печально! Даже хуже, чем прямоугольничек на лицевой стороне обложки. Возможно, если текст самостоятельного писателя Дмитрия Данилова не требовал редактуры, то редактору Качалкиной пришлось заниматься составлением текста на обложке для привлечения внимания к книге, и она решила, что надпись в белом прямоугольничке «Жизнь – вот она, а футбол – футболом!» и заигрывающий смайлик очаруют любого читателя, так что настояла на внесении этих элементов в оформление обложки? Но тогда странно, что прославленный редактор закончила предложение «Дмитрий Данилов – прозаик, поэт, редактор» точкой, а следующий за ним список начала с маленькой буквы. Ведь редактор, а тем более прославленный, должен (должна?) знать, что предложения начинаются с большой? А раз предыдущее предложение закончилось точкой, то список является новым предложением. В общем, решительно невозможно понять, что же обозначает надпись «Редактор Качалкина», и почему эта информация была сочтена издателями столь важной, что издатели решили поместить её на обложку книги.
Небольшая часть поставленных выше вопросов снимется, если забыть, что внешняя сторона книги является самостоятельным и законченным пространством, раскрыть книгу и посмотреть выходные данные внутри. Оказывается, «Редактор Качалкина» – это серия книг издательства «Рипол Классик». Шеф-редактором книги оказывается «Ю. Качалкина». Если посмотреть в интернете другие обложки книг, изданные в серии «Редактор Качалкина», то обнаружится вот что: часть книг серии «Редактор Качалкина» имеют на обложках надпись «Серия: Редактор Качалкина», но только с добавлением слова “fresh”, что, видимо, означает подсерию «Редактор Качалкина fresh» серии «Редактор Качалкина»; часть книг имеют надпись «Серия: Редактор Качалкина»; некоторые книги серии «Редактор Качалкина» не имеют на обложках никакой надписи относительно принадлежности к этой серии, и, наконец, только две из увиденных мной книг имеют надпись «Редактор Качалкина» без каких-либо пояснений. Видимо, не я один был введён в заблуждение этой надписью и редактор Качалина отказалась от идеи наносить на обложку надпись «Редактор Качалкина» таким образом.
Таковы результаты рассмотрения обложки книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА писателя Дмитрия Данилова и последующего небольшого расследования. А саму книгу я начал читать, но пока не дочитал, так что писать о её содержании сегодня не хочется – не стоит торопиться с такими вещами.
06.02.17
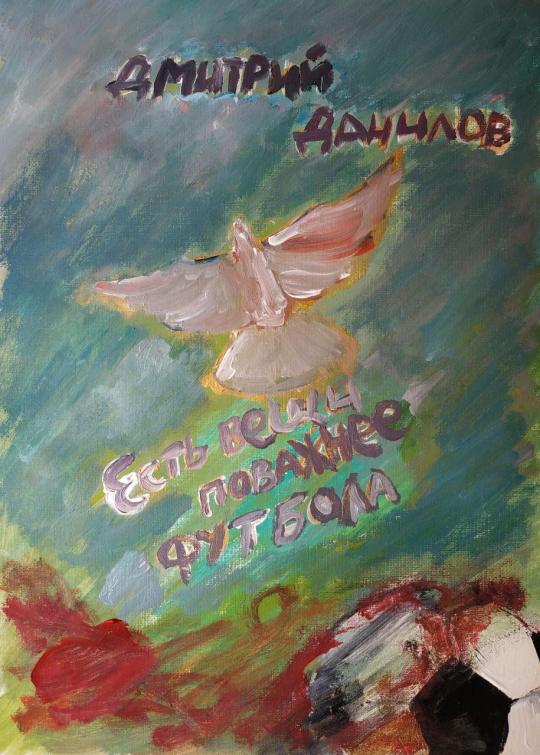
Сегодня поехал на метро и купил с рук книгу Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА за 150 руб. Если бы продавец ехал сначала на автобусе, а потом на метро, а потом обратно на автобусе, то больше половины денег, вырученных за книгу, были бы истрачены на дорогу – если конечно, у него (неё) не было других дел в городе. А я порадовался, что дизайн у этой книги очень хороший и красивый, ещё у книги ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ красивый, но тут даже красивее получился, и очень приятно её было подержать в руках, а потом сложить в рюкзак, и даже описание показалось достойным, потому что состояло оно преимущественно из слов самого Дмитрия Данилова. Радость.
А дочитать книгу ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА я пока не успел. 5 февраля было прочитано 50 страниц, 6 февраля было прочитано 120 страниц, сегодня пока около 100, так что осталось ещё 50. Ну, может перед сном дочитаю, а завтра уже напишу про неё. А сегодня не успею. Всё потому, что были дела, связанные объяснением людям начала курса теории вероятностей. Очень хороший предмет – теория вероятностей, наверное, самая лучшая из всех математик, потому что она позволяет видеть мир не в виде «да»/«нет», а как статистическую картину, где всё совершается с такой-то вероятностью, да ещё и иногда понимать, с какой вероятностью, и так мир становится намного понятнее. Хотя по началу курса это ещё трудно сказать. Там, скорее, такие вопросы возникают: если у тебя дома лежало четыре книги Дмитрия Данилова – ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, а ты приехал домой, и у тебя в рюкзаке лежали книги Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА и ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА, и ты вместо того, чтобы доставать их из рюкзака, взял, и сложил в него те четыре, что были у тебя дома, а потом решил доставать все шесть из рюкзака не глядя и выкладывать всё по порядку, то какова вероятность, что они окажутся разложенными в порядке выхода в свет? Это конечно, очень просто – вероятность того, что первой достанется самая ранняя, когда книг в рюкзаке шесть, равна 1/6, после чего в рюкзаке останется пять книг, и вероятность того, что второй достанется чуть более поздняя, равна 1/5 и так далее, а общий ответ на поставленный вопрос в виде цифр будет выглядеть как 1/6! или же 1/720. В общем, очень вряд ли у вас получится так ловко доставать книги случайным образом, чтобы всё вышло как планировалось или желалось. А вот вероятность того, что при доставании двух случайных книг корешок у них будет одного цвета – повыше, потому что у книг ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ и ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА корешки синие, а у книг СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ и ОПИСАНИЕ ГОРОДА корешки красные, у ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ разноцветный, у ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ бело-оранжевый. Значит, первым делом можно достать любую из четырёх книг, имеющих партнёра по цвету корешка, вероятность 2/3, а после уже нужно будет достать одну конкретную из оставшихся пяти, так что общая вероятность окажется 2/3*1/5, и это 2/15, больше 10%. Конечно, очень простые вычисления, даже не знаю, зачем привёл их тут, но уже привёл, так что теперь ну а что делать.
Да и эксперимент оказался каким-то глупым, потому что книги все разного размера, три в твёрдых обложках, три в мягких, так что даже если ты достаёшь их из рюкзака не глядя, то всё равно на ощупь будет понятно, где какая книга, настолько они разные, и никаких случайных событий не получится. А чтобы получилось надо, например, просить кого-нибудь перемешать книги так, чтобы ты не видел, а потом называть ему номера книг от одного до шести, и он тебе будет выдавать соответствующую, вот тогда получится случайность. Да, это больше похоже на правду. И если так поступить, то какова будет вероятность, что ты назовёшь номера 3 и 5, и обе книги, стоящие на этих местах, окажутся красными? Или: сколько различных наборов книг любого количества можно составить из шести книг писателя Дмитрия Данилова? Нет, это всё так просто, что пора прекращать выдумывать эти задачки, принимать горизонтальное положение и дочитывать ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА.
07.02.17
Вчера была дочитана книга Дмитрия Данилова ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду читать книгу, связанную с футболом. Точнее, я и ранее читал книги, связанные с футболом, и даже смотрел ряд фильмов, связанных с футболом, но все они были о фанатских движениях, т.е. посвящены так называемой контркультурной тематике, там описывались распития и драки, а сам футбол обычно даже не описывался. А тут – другой случай, никаких драк, никакой контркультуры. И первые 50 страниц читать было очень скучно, потому что трудно придумать более бессмысленный способ вложения человеческих эмоций, чем в боление за футбольную команду, и все детали этого процесса малоинтересны, и нет ни малейшей разницы, с каким счётом будет сыграна та или иная игра. От этого наступало раздражение и было не ясно, почему Дмитрий Данилов решил писать о футболе, хотя мог бы, например, в течение года смотреть итальянские эксплуатационные фильмы и описывать свои впечатления от них, или слушать все альбомы всех участников ФОРМЕЙШЕНА, и описывать свои впечатления от них, или читать ПСС Дмитрия Ивановича Писарева – тем более, что там как раз двенадцать томов, можно было читать по тому в месяц – и описывать свои впечатления от прочитанного. Во всех трёх случаях эксперимент вышел бы схожим, а результат – куда интереснее. А ещё в начале книги Дмитрий Данилов начал пересказывать историю о том, как он проникся футболом, ранее описанную в повести ДОМ ДЕСЯТЬ; а потом вставил в тело книги некую свою статью про футбол, где опять это пересказывал, и тут уже запахло лимоновщиной, т.е. халтурой, столь свойственной писателю Эдуарду Лимонову, допускающему вечные самоповторы и рассказывающему одни и те же истории по несколько раз. В общем, первый заход был не очень удачным, но при втором всё изменилось и произошло погружение, ведь как ни крути, а Дмитрий Данилов – хороший русский писатель, и читать его интересно. В предыдущих книгах он подробно описывал, на каких автобусах катается, или описывал города, улицы и строения, наблюдая за ними, и футбол у него получилось описать схожим образом – смотрит и пишет, что там происходит, фиксирует, как добирался до стадионов, где происходили игры и как выглядели эти стадионы, какие из них были более уютными, а какие менее, приводит свои зачастую забавные наблюдения за болельщиками и прочими людьми, а также тексты редких кричалок. Так что описание футбола оказывается не менее скучным, чем перечисление номеров автобусных маршрутов, которыми он пользовался для передвижения. Та же обволакивающая атмосфера повседневности и мелкой суеты, которая не захватывает тебя, а просто существует как нечто обязательное в твоей жизни, но к чему можно относиться отстранённо. В общем, книга ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА получилось хорошей, приятной и трогательной, несмотря на тематику.
А вот понять логику любителей футбола после неё всё равно не удалось. То есть, конечно, понятно, что в болении есть азартная составляющая, понятно, что это способ коммуникации между людьми, возможность испытать близость к другим болельщикам и так далее, понятно, что это позволяет структурировать свою жизнь за счёт выдумывания иллюзорных целей и выполнения их – типа просмотра футбола в такой-то день во столько-то часов или посещение матча в такой-то день во столько-то часов, понятно, что при погружении в тему можно зарываться в какую-то информацию и изучать истории клубов, биографии игроков, и всё это будет цеплять темы, связанные с общим устройством жизни (историей, политикой, бытом), но это очень мало, это можно сказать о любом хобби или занятии, а ряд хобби или занятий обладают при этом ещё дополнительными плюсами, позволяют физически или интеллектуально развиваться и так далее. То есть футбол оказывается одним из худших хобби, и если выбирать, то естественно выбирать не его. Очень странное увлечение выбрал себе писатель Дмитрий Данилов. Но книга всё равно вышла хорошей.
Только раздражало, что основной сюжет книги был посвящен играм ДИНАМО, а не основной – другим футбольным событиям, и при этом куски текста, относящиеся к неосновному сюжету выделялись курсивом, их было много, и приходилось читать на бумаге десятки страниц текста, набранного курсивом, а это не очень приятно. Всё-таки курсивные выделения нужны для небольших текстов или цитат, а для больших их применять не стоит. А самоповторов в духе лимоновщины в книге Данилова больше почти не было, но немного всё равно было, и иногда он в следующей записи второй раз описывал события, которые имели место в предыдущей записи, и это тоже было немного печально, потому что непонятно, зачем так делать, когда при редактуре поудалять такие фрагменты не представляет затруднений. Но книга всё равно вышла хорошей.
Настолько, что по окончании чтения не захотелось с ней расставаться, и я принялся изучать выходную информацию. Первое, что бросилось в глаза – это знак информационной продукции «16+», который привёл меня в некий ступор. Я стал пытаться представить себе пятнадцатилетнего человека, на которого чтение книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА оказало разлагающее влияние. Безуспешно. Затем – четырнадцатилетнего, тринадцатилетнего, двенадцатилетнего. Результат был тот же. Задумался и об одиннадцатилетнем, но это где-то пятый класс, и тут уже стало трудно представить себе пятиклассника, который вообще решился бы читать книгу современного отечественного писателя о футболе. Впрочем, если бы решился, то это было бы похвально, а информационный знак говорит о том, подобную инициативу ребёнка стоило бы осудить. Почему? Максимум, что содержится негативного в этой книге – это несколько бранных слов, но не матерных. Попытался представить себе пятиклассника, который ни разу в жизни не слышал бранных слов, а потом прочитал книгу Данилова и начал их активно использовать. Попытка вновь не увенчалась успехом. Неизбежно пришла мысль, что нанесение подобного знака на книгу Дмитрия Данилова – жест совершенно абсурдный и вредный.
После чего я стал изучать состав редколлегии. Как я уже говорил, шеф-редактором книги является редактор Ю. Качалкина. Но удивило, что и обычный редактор, и выпускающий редактор, и художественный оформитель, и корректор также оказались людьми женского пола. Т.е. над книгой о футболе работали пять дам различного возраста. Тоже довольно странно (Позже, изучив целый ряд различных книг, я пришёл к выводу, что исключительно женский состав в выходных данных – явление распространённое. – Прим. И.С. 2020.). А затем я ещё раз перечитал информацию на задней стороне обложки и обнаружил, что о получении Дмитрием Даниловым премии БОЛЬШАЯ КНИГА сообщается дважды (точнее, сообщается, что Данилов является финалистом премии БОЛЬШАЯ КНИГА – эти формулировки всегда оставляли ощущение неясности; проверка показала, что самой премии Данилов не получал). Опять редактор Качалкина недоглядела, достаточно было бы и одного упоминания, а лучше было бы вообще об этом умолчать. Ведь всё-таки очень печально наблюдать весь этот гипертрофированный интерес к премиальному процессу, эти бесконечные перечисления премий на книжках и прочий мелкий маркетинг в области искусства. На этом листание книги ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА было окончательно завершено.
Всё это я написал утром, после чего отправился по делам, а во время передвижений читал книгу Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА. По окончании дел я думал отправиться домой, но осознал, что заразился от писателя Дмитрия Данилова духом прогулок и созерцаний, так что принялся околачиваться. Сначала мной был пройден некоторый маршрут, потом посещён букинистический книжный магазин на Старом Арбате, где я приобрёл за 50 рублей биографию видного деятеля большевизма, правда, ставшего большевиком всего за пару лет до смерти, а потом отправился на станцию метрополитена «Арбатская», но только не известную синюю «Арбатскую», а редкую голубую «Арбатскую». Редкая голубая «Арбатская» отличается от остальных станций метрополитена тем, что в ней находится советский буфет, где продают чай, сироп, еду и кондитерские изделия. Собственно буфет и был целью посещения редкой голубой «Арбатской». В прошлый раз, когда я заходил сюда, буфет представлял из себя обычную металлическую дверь в стене, выкрашенную серой краской, не имеющей никаких надписей и прикрытую. Человек, не имеющий обыкновения дёргать подряд за ручки все двери, находящихся в метрополитене, и не знающий, что за этой конкретной дверью расположен буфет, не имел никаких шансов обнаружить его. В этом было своё обаяние. А теперь буфет претерпел ремонтные работы, дверь стала иметь в себе вырез со вставленным стеклом, а над дверью появилась большая надпись БУФЕТ №11. Обнаружить легко. Ну, почему бы и нет. Я решил заказать себе чай и посидеть в буфете, читая книгу Дмитрия Данилова ОПИСАНИЕ ГОРОДА. На вопрос продавщицы, желаю ли я ещё что-либо, кроме чая, я ответил, что желаю ещё один чай. Тогда продавщица посетовала, что у них сегодня недостаёт пластиковых стаканчиков, и попросила сначала выпить первый чай, а потом подойти с тем же стаканчиком, и она нальёт туда второй чай. Я согласился и заплатил 22 рубля, а потом уселся и начал читать книгу ОПИСАНИЕ ГОРОДА. По идее буфет предназначался в первую очередь для машинистов электропоездов метрополитена, чтобы они могли питаться во время трудовых будней, но за время моего сидения в буфете таковой явился всего один. В остальном же его посещали студенты, бабушки (одна из которых была в сопровождении внука) и мужички хмурого вида. Посетители употребляли слова «кофеёк», «сосисочка» (в тесте) и особо интересовались творожной булочкой с маком за 16 рублей, уточняя у продавщицы, содержит ли творожная булочка с маком в себе творог, но продавщица поясняла, что это просто тесто творожное, а творога внутри булочки нет, зато есть мак, и он посыпан на булочку сверху. А один хмурый мужчина не хотел покупать никаких напитков и кондитерских изделий, попросив себе только простой пластиковый стаканчик, поясняя, что найдёт сам, что в него налить. Когда я обновлял чай в пластиковом стаканчике, то попытался заплатить ещё 22 рубля, но выяснилось, что 22 рубля стоили две порции чая. Очень экономно. В общем, приятно было сидеть в буфете и пить чай, немного наблюдая за посетителями и продавщицами, а также читая книгу ОПИСАНИЕ ГОРОДА. За время сидения я успел прочитать 25 страниц, а всего книга ОПИСАНИЕ ГОРОДА включает в себя 250, так что можно сказать, что книга весьма короткая. Тем более что текста на страницах мало: книга уменьшенного формата, а пропуски между строчками большие. После сидения в БУФЕТЕ №11 и чтения книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА я отправился домой. Сначала поделал дела, потом написал эту часть текста, а теперь буду дочитывать ОПИСАНИЕ ГОРОДА.
08.02.17
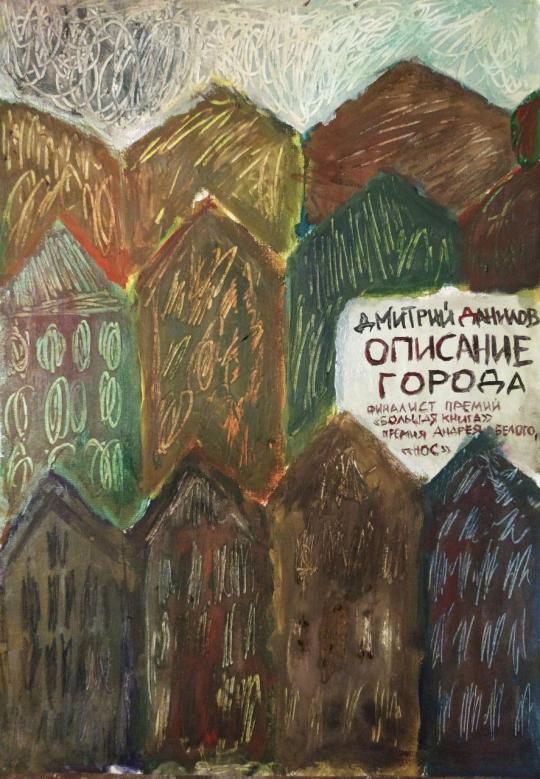
Процесс чтения книг Дмитрия Данилова продвинулся ещё на две позиции – ОПИСАНИЕ ГОРОДА и СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ. ОПИСАНИЕ ГОРОДА – книга, приятная во всех отношениях. Данилов рассказывает о том, как многократно катался в Брянск и изучал его, но название города умалчивает, как и название всех характерных для города объектов: улиц, площадей, футбольных команд, которые там играли – вплоть до магазинов. Чтобы умолчать, Данилов заменяет их некоторыми описаниями, что позволяет ему развернуться в плане языковой игры и активно использовать канцеляризмы и косноязычие в духе Платонова, но только не так, как у Платонова, а с юмористической целью – выходит забавно. К тому же, если Данилов находит какую-то удачную шутку, то повторяет её с такой настырностью, которой я не встречал ни у одного другого писателя. Точнее, встречал только у одного писателя – Николая Гавриловича Чернышевского. В первой части романа ПРОЛОГ Николай Гаврилович Чернышевский неизменно вкладывал в уста героя, списанного с самого себя, обращение «голубочка» – каждый раз, когда лирический герой обращался к своей жене, списанной с жены Николая Гавриловича. В итоге только что произведённый при помощи цифровых технологий подсчёт показал, что слово «голубочка» встретилось в первой части романа ПРОЛОГ ровно двести раз. У Дмитрия Данилова фраза «гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины» была использована всего 42 раза, но, с другой стороны, в ней и слов больше, чем во фразе «голубочка». Раз уж мы заговорили о классиках русской литературы, то необходимо ещё привести цитату Фёдора Михайловича, но не Решетникова, а Достоевского – она относилась к писателю Николаю Успенскому:
«Большею частью г-н Успенский вот как делает. Он приходит, например, на площадь, и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом, всё, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину, естественно, войдет и всё совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский об этом мало заботится. Ему, например, хотелось бы изобразить в своей фотографии рынок и дать нам понятие о рынке. Но если б на этот рынок в это мгновение опустился воздушный шар (что может когда-нибудь случиться), то г-н Успенский снял бы и это случайное и совершенно не относящееся до характеристики рынка явление. Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине».
Так вот, на самом деле Николай Успенский использовал не совсем такой метод описания. Достоевский, чтобы его разругать, сгустил краски. А вот писатель Дмитрий Данилов зачастую использует в точности этот метод, и выходит у него очень хорошо. Можно сказать, что Достоевский напророчил появление писателя Дмитрия Данилова, но, напророчив, не смог оценить по достоинству. А третий классик, о котором стоит тут поговорить – это Л. Добычин. Тот самый Л. Добычин, что оказался единственным из классических писателей, который не умер. Вместо этого он взял и пропал. А ещё Л. Добычин написал хорошую книгу под названием ГОРОД ЭН. Собственно, традиции Л. Добычина и продолжает писатель Дмитрий Данилов. Также их продолжает писатель Владимир Козлов, так как его тексты обладают заметным стилистическим сходством с текстами Л. Добычина, но разница в том, что Владимир Козлов по собственному признанию не читал Л. Добычина и продолжает традиции несознательно, а Дмитрий Данилов читал и продолжает сознательно. Свыше того, как можно узнать из книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА, каждый раз, когда Дмитрий Данилов посещал Брянск, он шёл на место, где был расположен дом Л. Добычина, и наблюдал, как поживает кусок стены, оставшийся от этого дома. В первое посещение кусок стены был обнесён забором, а уже во второе посещение забор убрали. Все 10 следующих раз кусок стены неизменно стоял, ничего с ним не происходило, а Дмитрий Данилов этому радовался, так как переживал, что на этом месте построят что-нибудь новое, и не будет больше куска стены. И в остальном – пребывая в Брянске, Дмитрий Данилов часто вспоминал Л. Добычина, приводил его цитаты, путешествовал по добычинским местам, повторял его маршруты и проч. Это также добавило книге ОПИСАНИЕ ГОРОДА своеобразного обаяния, потому что приятно, когда люди не только помнят, но ещё и так искренне любят писателя Л. Добычина. Помимо этого Данилов забавно описывает изучение брянской прессы, посещение брянского музея, посещает футбольные матчи, происходящие в Брянске, но основными составляющими книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА остаются сам Брянск, Л. Добычин и языковые игры. Приятная книга! Во всех отношениях.
В книге СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ всё оказалось ещё проще – Дмитрий Данилов как раз там следовал методу, изложенному Достоевским чуть выше, с той лишь разницей, что он выбирал, куда установить свою фотографическую машину. В ка��естве фотографической машины Данилов использует смартфон (кстати, хотя под «фотографированием» у Достоевского понимался процесс текстового описания, Данилов действительно создавал тексты при помощи «фотографической машины» – ведь смартфон имеет и функцию совершения фотографий; выходит, что Достоевский ненамеренно это ловко предугадал), а текст на нём набирает палочкой, что куда затруднительнее, чем жмакать по компьютерной клавиатуре. А значит, вымученность каждой буквы увеличивается. Данилов начал писать СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ в мае 2013 года и писал чуть больше двенадцати месяцев. В этот период он, судя по всему, много путешествовал, так что для наблюдения выбирал не только отечественные города, но и различные забугорные. Оказалось, что читать наблюдения за соотечественниками интереснее и забавнее, потому что русские люди совершают больше абсурдных действий, которые проще описать забавно. И иностранцы в России тоже ведут себя более абсурдно (например, Даниловым были описаны действия ансамбля индейцев, игравших свою этническую музыку во Владимире). А иностранцы в иных странах ведут себя поскучнее, к тому же, их диалоги Данилов приводит обрывочно в силу незнания языков, на которых они совершались, а диалоги соотечественников Данилов приводит подробнее, и они тоже зачастую оказываются забавными. Но в глобальном смысле забугорные и отечественные люди ведут себя схоже – ходят и занимаются своими делами.
А заканчивается книга СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ описанием наблюдения Данилова, совершённого вблизи места, на котором стоит кусок стены дома Л. Добычина. Оказалось, что со времён написания книги ОПИСАНИЕ ГОРОДА его вновь огородили забором. Данилов стал переживать, что всё-таки там что-нибудь построят. Но на момент 10 мая 2014 года ничего там построено не было, уже хорошо.
Точнее, описанием наблюдения, совершённого вблизи места, на котором стоит кусок стены дома Л. Добычина, заканчивается не книга СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, а текст под названием СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, помещённый в книгу СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ. Помимо него в книгу СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ входит ещё текст 146 ЧАСОВ, написанный в 2010 году по схожей методике. Дмитрий Данилов осуществил мечту каждого россиянина – проехался на поезде Москва – Владивосток. А текст 146 ЧАСОВ является описанием этой поездки. Очень хорошо, что он вошел в эту книгу, потому что ранее я изучал на сайте ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ список публикаций Дмитрия Данилова – все сколько-нибудь большие тексты были изданы одноимёнными книгами, кроме 146 ЧАСОВ. Я думал, что на бумаге, не являющейся частью журнала, он так и не обнаружится, но приятно ошибся. В силу времени написания этот текст по стилю ближе к роману ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, а так как после него я успел прочитать много других текстов Данилова, то эта близость оказалось приятной и вызвала у меня, если можно так выразиться, ностальгию по былым денькам. Действиям пассажиров поезда тут уделено не так много внимания, больше – описанию видов за окошком. Текст отличный и познавательный, из него я узнал, например, в честь чего с большой вероятностью была названа станция ПОСТРОЙКА Красноярской области (Цитату о станции ПОСТРОЙКА я сразу после прочтения 146 ЧАСОВ выложил в ЛУКОШКО, и спустя два года мне в личные сообщения написал человек, который сказал, что очень заинтересовался этой станцией, посетил её и обнаружил, что станция на самом деле называется ПОСТОЙКА. Оказалось, что Дмитрий Данилов ошибся, и его предположение о том, что станция названа в честь единственной попадающей в поле зрения постройки – некоей БУДКИ – оказалось неверным. – Прим. И.С. 2020), а также о существовании посёлка городского типа ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ. Сразу подумал, что будь я женщиной, можно было бы после зачатия ребёнка и поехать туда с целью рождения, а потом новый человек во всех документах писал бы в графе «место рождения» – ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ. А люди, принимающие документы, смотрели бы на него с недоумением, и всё это, вероятно, приводило бы к множеству забавных ситуаций. В целом же из текста 146 ЧАСОВ я узнал, по какому пути следует поезд Москва – Владивосток, и убедился, насколько всё-таки широка и различна Россия.
Вот ещё: читая СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ я в моменте всё-таки начал скучать и испытал ощущение, что Данилов начинает повторяться, некоторые приёмы языковой игры уже воспринимались без былого азарта. Создалось ощущение, что я начал уставать от писателя Дмитрия Данилова. Но, дочитав текст, я решил задать себе ряд вопросов, а затем ответить на них. Хорошо ли, что Данилов написал этот текст? Да, хорошо. Стоило ли Данилову что-то в нём менять или писать его иначе? Нет, хорошо, что он написал СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ именно так. Если бы я заранее знал во всех деталях, о чём этот текст, стал бы я его читать? Да, стал бы. Доволен ли я, что прочитал этот текст? Да, доволен. После такой мини-анкеты я пришёл к выводу, что вовсе не устал от Данилова, а сиюминутное чувство было иллюзией, вызванной, вероятно, некими пере��адами настроения, зависящего больше от внешних причин и дел. Единственное, что стоило бы изменить в этом тексте – это использование имён числительных. Почти в каждом тексте он, заняв место наблюдения, использует фразы типа «Если повернуть голову налево примерно на 160 градусов, можно увидеть Королевский дворец». Но в некоторых наблюдениях имена числительные написаны цифрами, а в некоторых – прописью, что нарушает стилистическое единство текста. Вот такая ничтожная оплошность была допущена, а всё же – бросается в глаза. В остальном – всё хорошо.
А вот с описанием к книге опять вышла небольшая беда. Оно звучит так: «"Сидеть и смотреть" – не роман, не повесть, не сборник рассказов или эссе. Автор определил жанр книги как "серия наблюдений". Текст возник из эксперимента: что получится, если сидеть в людном месте, внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, в режиме реального времени описывать наблюдаемое <…>. В качестве приложения в книгу помещён текст "146 часов", родственный по методу создания <…>. Текст публикуется в сокращённом варианте с сохранением авторской орфографии и пунктуации». Прочитав описание, я подумал, что в сокращённом варианте публикуется именно текст 146 ЧАСОВ, а не будучи любителем сокращений, я возжелал узнать, что же было выпущено. И вообще, стало очень интересно, как же можно сокращать тексты Дмитрия Данилова. Я начал построчно сверять опубликованный в книге вариант 146 ЧАСОВ с журнальным. Сравнив примерно треть текста, я обнаружил, что никаких сокращений нет. Тогда я подумал, что наличие сокращений можно выявить следующим образом: узнать, какое количество символов содержит в себе журнальный (т.е. совпадающий с книжным, но доступный в электронном виде) вариант текста СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, затем узнать, сколько символов содержит в себе журнальный вариант 146 ЧАСОВ, вычислить отношение объёмов этих двух текстов, а затем вычислить такое же отношение по опубликованным в книге вариантам (там считать количество символов не пришлось бы, достаточно знать количество страниц), и сравнить полученную информацию. Если бы, например, объёмы журнальных редакций соотносились как 3:1, а книжных – как 7:2, можно было бы смело утверждать, что 146 ЧАСОВ действительно сократили, и, подпитываясь обретённой уверенностью, выискивать эти сокращения. Я решил воспользоваться выдуманным алгоритмом и открыл журнальный вариант СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, чтобы затем скопировать его в «Ворд» и заглянуть в статистику текста. Но, открыв журнальный вариант СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, я обнаружил снизу страницы некий отрывок, которого не приметил в книге. Что же это? Он обладал подзаголовком «Эпилог, если можно так выразиться». Однозначно, в книге его не было. Так я и выяснил, что слова «текст публикуется в сокращённом варианте» относились к тексту СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ. Дальнейшая проверка, с учётом проверки по разработанному мной методу, показала, что кроме эпилога («если можно так выразиться»), ничего из него выкинуто не было, а эпилог и правда выглядел очень слабым и неуместным. Вот к таким трудностям привело некорректно составленное описание к книге СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ.
Что ж, пришло время приступать к книге ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ. Вновь – сидеть и читать.
09.02.17
К настоящему моменту книга ещё не прочитана, зато из предисловия я узнал, что вошедшие в неё тексты были написаны в 2007–2009 годах. В связи с этим захотелось провести некое каталогизирование, чтобы разобраться, в какой последовательности Дмитрий Данилов создавал свои тексты. Даты под текстами указаны не везде, книги часто выходили позже, чем сами тексты и т.д., а всё-таки настоящая последовательность важна и интересна. В этих изысканиях мне также помог персональный сайт Дмитрия Данилова.
01 ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ (повесть, 2003).
02 ДОМ ДЕСЯТЬ (повесть, 2003–2004).
03 ДЕНЬ ИЛИ ЧАСТЬ ДНЯ (повесть, 2003).
04 Рассказы (2002–2010).
(Всё это составило содержание трёх первых книг Данилова – ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ (2004), ДОМ ДЕСЯТЬ (2006), ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ (2010). Состав последующих книг я уже описал подробно в тексте, так что не буду повторяться.)
05 ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ (очерки, 2007 – 2009) .
06 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (роман, 15.01.2009 – 14.01.2010).
(Интересное пересечение. Не припомню, чтобы в тексте романа ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ упоминалось написание текстов из книги ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ или каких-то рассказов из четвёртого пункта.)
07 146 ЧАСОВ (повесть, 11.06.2010 – 22.06.2010)
08 ОПИСАНИЕ ГОРОДА (роман, 31.01.2011 – 13.12.2011).
09 СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ (серия наблюдений, 07.05.2013 – 10.05.2014)
10 ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА (роман, 24.07.2014 – 02.07.2015)
11 И МЫ РАЗЪЕЗЖАЕМСЯ ПО ДОМАМ (стихи, 2013 – 2014)
12 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (стихи, 2015)
13 ДВА СОСТОЯНИЯ (стихи, 2016)
14 ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (пьеса, 2016)
(О последних четырёх позициях речь ещё пойдёт ниже.)
Для составления списка я использовал все указанные под текстами даты в различных источниках, и если где-то допустил ошибки, то тут моей вины нет. Теперь можно проследить динамику занятий творчеством Дмитрия Данилова. В 2003 был заложен мощный фундамент, но основная активность почему-то началась лишь шесть лет спустя. С тех пор Данилов пишет практически не переставая. Интересно только, чем же он занимался в 2012 году, раз ничего тогда написано не было. Возможно, эту информацию можно было бы получить, изучив ЖЖ Дмитрия Данилова, или его страницы в социальных сетях, или поискав в интернете его интервью, но делать этого сейчас мне не хочется.
А ещё оказалось, что я уже прочитал все книги Данилова, содержащие художественные прозаические тексты. И теперь хочу поделиться наблюдением о том, что из всех русских писателей Данилов наиболее схож с Владимиром Сорокиным. Возможно, мой вывод покажется вам неожиданным и потребует пояснений. Извольте, вот и они.
В книге ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ некая сорокинщина напрямую проскакивала в рассказах – люди совершали абсурдные непонятные действия, но только, в отличие от Сорокина, не эпатажные. В повести ДЕНЬ ИЛИ ЧАСТЬ ДНЯ сорокинщина проявилась в описаниях действий человека, они были похожи на текстовые игры нашего светоча постмодернизма. Вот, например, абзац о том, как человек играл в САПЁРА, разговаривая по телефону: «… да, конечно, мы переверстаем, это не вопрос, но вы всё-таки подумайте, стоит ли, щёлк, щёлк, по-моему в нынешнем виде гораздо лучше, а, ну тогда да, давайте, давайте, вы мне текст пришлите, пожалуйста, щёлк, щёлк, мы завтра сделаем, я как раз в офисе буду, мы с дизайнером посидим, я вам пэдээфку по почте вышлю, окей, щёлк, щёлк, щёлк, как только вышлю, сразу позвоню, и мы это дело утвердим, щёлк, надо завтра обязательно утвердить, а то мы по срокам не успеем иначе, щёлк, щёлк, но всё-таки жалко, такой макет симпатичный получился, ну ладно, хорошо, договорились, до свидания, всего доброго, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, взрыв, эх, всего две остались, надо было ту открывать, говоришь им, как лучше, не понимают <…>». Кстати, и сама повесть ДЕНЬ ИЛИ ЧАСТЬ ДНЯ напоминает рассказ Сорокина МОЯ ТРАПЕЗА из сборника ПИР. А предисловие сорокинского ЭРОСА МОСКВЫ напоминает предисловие ОПИСАНИЯ ГОРОДА Дмитрия Данилова. Но на этом сходства не заканчиваются.
Подходы к созданию книг у Сорокина и Данилова оказываются схожими. Содержание четырёх больших вещей Данилова можно описать одной строчкой: ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ежедневно в течение года фиксировать свои рутинные действия, передвижения и занятия; ОПИСАНИЕ ГОРОДА – ежемесячно в течение года ездить в Брянск и фиксировать свои наблюдения; СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ – создать серию наблюдений по схеме, которую я упоминал выше; ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА – в течение футбольного сезона посещать игры и описывать их.
То же можно сказать и о ранних вещах Сорокина. Многие рассказы составлены по схеме – взять типичный для соцреализма сюжет и завершить его эпатажными действиями. ТРИДЦАТАЯ ЛЮБОВЬ МАРИНЫ – начать роман в духе буржуазно-эротической прозы, а завершить соцреализмом. РОМАН – начать роман в духе классической литературы, а завершить его эпатажными действиями (надеюсь впоследствии написать более подробную статью, посвященную анализу Сорокина и его приёмчиков). После того, как в голове автора возникает подобная концепция, дело остаётся за многим – последовательно писать роман, но общая канва уже намечена однозначно, и значительных отклонений от неё не произойдёт. Всё-таки большинство писателей работают совершенно иначе, так что обозначенная близость творческих методов – это очень важно.
Выходит, постмодернист оказал самое благотворное творческое влияние на реалиста (если пожелаете, натуралиста). Опять же, совпадения тут нет, пару рассказов Данилов не смог бы написать, не читая Сорокина, а в книге ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ он упоминает, что обсуждал с товарищем творчество Владимира Георгиевича. Так что факт знакомства Дмитрия Данилова с творчеством Владимира Сорокина установлен. При этом книги у Данилова и Сорокина получаются абсолютно разными. Приятно в который раз убедиться, как творческие люди могут благотворно развивать мысли других творческих людей, убедиться в наличии пронизывающих искусство взаимосвязей, в том, что в реальности различные жанры прозы не так уж далеко ушли друг от друга, и главное для искусства – это не жанр, направление и т.д., а талант создателя. Очевидная вещь, а забывается людьми часто.
А ещё сегодня мне захотелось упомянуть, что в книге ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ герой Данилова совершает покупку книги Захара Прилепина ИМЕНИНЫ СЕРДЦА – сборника интервью, взятых Прилепиным у отечественных литераторов. Одним из опрошенных литераторов и был Дмитрий Данилов. К чему я это? К тому, что книгу ИМЕНИНЫ СЕРДЦА я читал давно, лет пять назад, значит, на деле о Дмитрии Данилове я узнал не из статьи Романа Сенчина, как утверждалось в начале настоящей заметки, а из ИМЕНИН СЕРДЦА. Просто потом напрочь забыл его имя. Такая мелкая деталь.
10.02.17
Всё-таки это оказалось удобным – писать статью в форме дневника. Не нужно продумывать всё заранее, как я обычно это делаю. Пишешь себе и пишешь, фиксируешь мысли как только они вызреют. К тому же можно изменять реальность под собственные нужды незаметным для читателя образом. Когда читаешь дневник, то думаешь, что все записи сделаны в тот день, которым помечены, а на деле позавчерашний текст я писал вчера и сегодня, вчерашний – сегодня, сегодняшний пока пишу тоже сегодня. Просто тогда не было времени их набить. А ещё подредактировал записи нескольких предыдущих дней, добавив в них в общей сложности около страницы текста. К тому же некоторые детали мне было лень описывать в точности, и я начал их перевирать. Например, первую заметку из книги ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ я прочитал даже до того, как начал писать эту статью, потом, пока добирался до книжного магазина ЦИОЛКОВСКИЙ – прочитал ещё две, а пока возвращался из него – начал читать книгу СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ, и ещё продолжил сразу как вернулся, вышло страниц пятьдесят. А так как оставшиеся объёмы текстов были прочитаны в другие дни, то в статье я сделал вид, что тогда и прочитал их целиком. Сегодня вот начал читать первый сборник стихов Данилова, а в статье напишу, что прочитал его завтра. А ещё вчера приобрёл электронную версию журнала НОВЫЙ МИР с пьесой Данилова ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА, а тут скажу, что это было сделано после прочтения всех девяти его книг. Занятное ощущение, будто бы можешь менять реальность по собственному усмотрению.
Это было небольшое лирическое отступление. Вернёмся к Данилову. Сегодня утром забрал с почты его книгу ДОМ ДЕСЯТЬ, которую приобрёл у букиниста за 180 рублей. Было известно, что текст, давший название книге, входил в уже прочитанную мной ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, но подумалось, что в ДОМ ДЕСЯТЬ могут содержаться неизвестные рассказы. К тому же книга ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ стала букинистической редкостью, и я не обнаружил ни одного предложения купить её с рук, а ведь потом надо будет вернуть её поэту Ивану, так что лучше иметь в собственной библиотеке хотя бы ДОМ ДЕСЯТЬ. Напомню, что книга издана в 2006 году редким издательством РАКЕТА в серии ОСУМБЕЗ группы ОСУМАШЕДШЕВШИЕ БЕЗУМЦЫ. Творческие люди подошли к изданию книги более творчески – в итоге наблюдается приятное внешнее оформление (хотя шрифты на обложке достаточно ужасны), а внутри так и вовсе красота: проза соседствует с фотокарточками описываемых Даниловым мест, при этом фотокарточки не прямоугольны, а различной формы, и вокруг них аккуратно группируется текст. В общем, книга сделана игриво и с любовью – очень приятно! Неизвестных рассказов в ней не оказалось, из уникальных материалов была только страничка с благодарностями автора и предисловие от Данилы Давыдова. Прочитал их, порадовался, что Данилов благодарит хорошего поэта Владимира Богомякова, порадовался, что Данила Давыдов также проводит параллели между Даниловым и любомудрым седовласым постмодернистом. Затем пролистал все страницы книги ДОМ ДЕСЯТЬ с большим интересом. Жаль, что такой творческий подход к оформлению книги встречается крайне редко.
Потом в который раз залез на страницу Дмитрия Данилова на ВИКИПЕДИИ. Спонтанно взбесился, что раздел БИБЛИОГРАФИЯ содержит всего семь из одиннадц��ти изданных им книг. Пришлось кропотливо его редактировать и пополнять – включая ИСБН. Почему-то важным русским писателям не везёт с читателями, заполняющими ВИКИПЕДИЮ – уже третий раз сталкиваюсь с подобным недостатком информации. До этого так же приходилось редактировать библиографию Александра Бренера и Романа Сенчина. Собственно, делал это всё больше для себя, потому что удобно, когда полный список книг имеется под рукой.
Больше у меня сегодня не произошло ничего, напрямую связанного с Дмитрием Даниловым. ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, возможно, будут дочитаны перед сном. После надо будет прочитать ещё три сборника стихов и – материал обязывает – перечитать ГОРОД ЭН Л. Добычина. А потом рассказать тут о процессе и результатах чтения. Подвести какой-нибудь итог. И статья окажется законченной.
11.02.17

Готово! Уж не знаю, будет это для вас неожиданностью или ожидаемостью, но выяснилось, что книга ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ хороша. Она состоит из журналистских очерков, но журналистика у Данилова не официозная, можно было бы сказать – гонзо-журналистика, но как-то язык не поворачивается, потому что ничего контркультурного у Данилова нет, просто он не старается быть объективным, а пишет личное, пропуская увиденное через себя, в общем, рассказывает не то, каков такой-то город, а то, каким такой-то город увиделся ему. В общем, Данилов держит себя в руках, и языковые игры тут сведены к минимуму, но всё-таки нарушает опостылевшие каноны краеведения, как ранее (хотя хронологически – позже) он делал это со спортивной журналистикой в книге ��СТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА. Такое нарушение является шагом в верном направлении, добавляет текстам живости, художественности и разнообразия. Не зря сборник завершает небольшое послесловие Олега Кашина под названием МАЛЕНЬКАЯ ЖАНРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Подмечено верно!
В предисловии к книге Данилов подчёркивает, что старался выбирать для описания редкие города, либо же, берясь за описание очевидных, пишет о каких-то редких явлениях в них. Ещё один шаг в верном направлении. Читать об огромной фабрике в городе НОВОМОСКОВСК куда интереснее, чем о путешествиях по Золотому Кольцу. Текстом о Новомосковске и открывается книга. Второй рассказывает о посещении Брянска, и можно считать его прологом к книге ОПИСАНИЕ ГОРОДА – даже наблюдение за куском стены дома Л. Добычина тут уже присутствует. Далее идут тексты разной степени интересности, но почти все они – хороши. Смотря на содержание книги, могу сказать, что мне наиболее запомнились следующие. Текст о Норильске. Он замечательным образом дополняет статью ЖИТИЕ СЕРГЕЯ СИТАРА из прорывного архитектурного самиздат-журнала ЗАПИСКИ ТАФУРИ, там упоминалось, что видному архитектурному мыслителю Сергею Ситару было предложено занять пост главного архитектора Норильска, несмотря на то, что в течение последних двадцати лет в городе не строили никаких зданий, а лишь иногда сносили. Но описанию самого Норильска должного места уделено в статье не было, и вот текст Дмитрия Данилова наконец-то восполнил досадный пробел. Далее, текст о Курске и чудовищном обилии магазинов, палаток и торговых центров в нём. Наблюдение за людьми, совершающими покупки. Текст о библиотеке в городе Петушки, которая, вопреки ожиданиям, активно функционирует, её посещает множество людей. Очень мрачный текст о городе ПРОКОПЬЕВСКЕ под названием УГОЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ. Данилов приехал туда в гости к знакомому музыканту, и они совершали перемещение по городу на такси, чтобы не подвергаться лишний раз опасности, идущей со стороны местных жителей. Культурная жизнь в Прокопьевске описана так: «Спрашиваю: а есть в Прокопьевске какие-нибудь интересные группы? Да какие группы, говорит Женя даже не с досадой, а с каким-то спокойным стоицизмом. Нет тут никаких групп, ни интересных, ни неинтересных. Не знаю, может, есть кто-то в глубоком подполье, сидит, не высовывается. Примерно как я. Здесь если заниматься музыкой или там литературой, то это можно делать только одному, сидя в глубоком, герметичном подполье, чтобы о тебе никто ничего не знал и даже не догадывался. Я спрашиваю ещё что-то о музыке, творчестве и "культурной жизни", и Женя отвечает всё с тем же спокойным стоицизмом — нет, не было, не будет». Детали о творческой деятельности музыканта Жени были опущены, но небольшое расследование выявило, что речь идёт об участнике довольно занятной группы СЕКТА ФЕНИКСА, у меня в коллекции даже есть их компакт, изданный знакомым, любителем шумовой музыки Денисом, на его лейбле ПРОВОЛОКА. Потом, помнится, СЕКТА ФЕНИКСА ещё играли неплохой перкуссионный индастриал… Ну, и текст о том, как Данилов помогал странному тамбовскому инвалиду перебираться по городу, что стало самым сильным его впечатлением от посещения Тамбова.
Описав это и переглядев содержание книги ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, я понял, что запомнил значительно больше. И описание череповецкого памятника, и музеев в Ульяновске и Сусанино, и текст про северный Мурманск и Абрам-мыс, и рассказ о музейных работниках города Орла, и курган Вещего Олега в Старой Ладоге, и московские бараки, и питерский День города, и белорусское телевидение, и московские окраины – т.е., почти все очерки из сборника оставили след в моей памяти. Такое со мной происходит крайне редко, обычно, когда я читаю подряд много небольших текстов, они не западают в память и мгновенно забываются. А значит, Данилов обладает выдающимся, редким талантом! Приятно и радостно.
Некоторые приёмы, выработанные в этих текстах, Данилов использовал впоследствии – описания памятников, ��узеев, телевизионных программ, да и вообще путевые заметки и интерес к урбанистике. Но всё это не повторялось им в дальнейшем творчестве, а как-то развивалось. Кстати, я всё-таки залез на ЖЖ писателя Дмитрия Данилова, и обнаружил, что записи, в которых он публикует свои тексты, снабжены тегом МОИ ТЕКСТЫ. Благодаря этому удалось выяснить, что тексты, вошедшие в состав книги ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ в действительности были написаны не в 2007 – 2009 годах, а в 2007 – 2008 годах, в 2009 году Данилов всё ещё продолжал работать в этом издании, и в предисловии к ДВАДЦАТИ ГОРОДАМ говорилось именно об этом, а не о том, что тексты, вошедшие в книгу, были написаны в 2007–2009. Это я невнимательно читал. А в 2009 году он ещё написал сколько-то статей для этого издания, но на другие темы, что и было описано в романе ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Всё встало на свои места.
В общем, книга ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ оказалась не просто приятным дополнением к его художественному творчеству, а вполне самостоятельной работой, при этом отличалось даже настроение книги, отдельные истории всё-таки были сильно депрессивными, а последующие тексты Данилова были лишены этого настроения.
Внешне книга ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ выглядит так, будто напечатана по технологии ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ, т.е. нечто среднее между полноценной книгой и домашней распечаткой на принтере. Даже трудно сказать, почему она воспринимается именно так, никаких очевидных, бросающихся в глаза отличий нет, но с интуицией не поспоришь. Можно было бы подробно обдумать тут это явление, но не стоит. Зато обложка у книги – хороша. Изучив сопроводительную информацию, я узнал, что её автор – это музыкант Владимир. Не могу сказать, что я знаком с ним, но как-то раз у нас состоялся диалог, в котором я критиковал творчество его группы. Впрочем, никакого негатива от этого происшествия ни у меня, ни, видимо, у него не осело. По крайней мере, мне показалось, что было бы логичным попросить музыканта Влад��мира нарисовать обложку для настоящей статьи, что я и сделал, а Владимир охотно отозвался, пояснив только, что оперативно откликнуться на просьбу ему мешает чудовищный загруз. Решили, что если он успеет, то нарисует, а я пока буду писать статью в своём темпе. Интересно, что из этого в итоге выйдет. (В 2017 году мы с музыкантом Владимиром несколько раз возвращались к обсуждению темы обложки, но так как готового текста не было, то не было и спешки, и в итоге наш диалог сошёл на нет. Вернувшись сейчас к настоящему тексту я раздумывал, не вернуться ли и к идее с обложкой от музыканта Владимира, но не успел прийти к финальному решению, как мне написал художник Денис. Он сказал, что желал бы оформить мне что-нибудь типа обложки для публикации. С Денисом мы уже много и прекрасно сотрудничали, и я подумал, что всё сходится очень удачно, и предложил ему нарисовать обложку для настоящей статьи. Так вопрос разрешился сам собой. – Прим. И.С. 2020.)
Также сегодня начал читать стихи Дмитрия Данилова. Они вышли в нью-йоркском издательстве, так что приобрести их на бумаге оказалось затруднительным, пришлось воспользоваться пдф-файлами, любезно выложенными самими издателями. Все три сборника стихов в сумме занимают примерно 300 страниц, так что можно воспринять их как одну книгу. Сегодняшние впечатления от них таковы:
Прочитал первую книгу стихов Данилова
Было неплохо, но не замечательно.
А потом
Когда я начал читать вторую
Стало замечательно.
Может быть, если бы я не прочитал первую
Не было бы замечательно
А так – замечательно.
Как нелепо звучит это слово
Если повторить его всего даже
Три раза.
И всё равно
Стоит повторить четвёртый.
Замечательно.
12.02.17
Как я уже говорил, писатель Дмитрий Данилов заранее продумывал концепции ряда своих книг, а потом ему оставалось только тщательно следовать условиям эксперимента. Однако этот результат зачастую становился понятным до окончания, и Данилов не пытался растянуть свои книги, а, напротив, ближе к концу начинал писать менее подробно. Так было с книгой ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – описание трёх последних месяцев Данилов уместил в десяти страницах, хотя эксперимент длился год, а вся книга занимает более 300. Так было с текстом СИДЕТЬ И СМОТРЕТЬ – по ходу текста отдельные наблюдения становились всё короче. Так было с книгой ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ФУТБОЛА – описание осенней части сезона заняло 200 страниц, а весенней – 80.
Я взялся писать эту статью и, хотя она пока не заняла у меня и десяти дней, я уже притомился. Хочется поскорее её закончить, и нет смысла писать про следующую книгу столь же подробно. С другой стороны, как это было и у Данилова, ближе к концу эксперимента начинает явственно ощущаться грусть, что вот сейчас дочитаешь все книги, и больше в твоей жизни не будет чтения Дмитрия Данилова, по крайней мере, в течение длительного периода времени, а если и будет, то этот текст всё равно закончится, а новый про его следующие книги совсем не факт, что будет написан. Может статься, что все мысли, которые у меня возникли в процессе чтения Дмитрия Данилова, необходимо изложить тут, и хочется ничего не упустить, особенно – ничего важного, ни о чём не забыть, изучить предмет до конца. Так и борются в тебе эти два чувства.
Третья книга стихов Данилова дочитана. Вообще стихи Данилова делятся на неплохие, хорошие и замечательные, а плохих у него и нет вовсе. Но почему-то чтение третей книги не вызвало у меня бурных положительных эмоций, как это было со второй. Казалось бы, стихи в ней не хуже, но вот всё-таки так оно вышло. Видимо, это и вправду зависит от каких-то моих личных перепадов настроения и не связано с качеством текста напрямую, но отследить такие перепады не представляется возможным, потому что по собственным ощущениям ничего в настроении не менялось. Или менялось, но не ясно, каким образом.
В общем, лирика Данилова, как это ни удивительно, почти всецело продолжает линии, намеченные в остальном его творчестве. Немного сорокинщины, немного автобиографических историй, катание на автобусах и электричках, футбол, посещение различных городов, истории о встреченных или знакомых людях. Есть какие-то более экспериментальные вещи, но нельзя сказать, что они сильно выбиваются из общего потока. Как и у Чарльза Буковски, проза Данилова поэтична, а стихи он пишет белые, и они приближаются к прозе, так что грань между этими типами текстов оказывается достаточно расплывчатой. А ещё, листая ЖЖ Данилова по тегу МОИ ТЕКСТЫ, обнаружил, что как минимум один стих датирован 2007 годом, а вовсе не 2013 – 2014, как я указывал выше. А ещё, листая ЖЖ Данилова по тегу МОИ ТЕКСТЫ, обнаружил, что в интернете был опубликован отчёт Данилова о его проживании в коломенской АРТКОММУНАЛКЕ. Надо прочитать. Сейчас.
14.02.17
Чтение текста растянулось. Он опубликован на сайте АРТКОММУНАЛКИ и называется КОЛОМЕНСКИЙ ТРАВЕЛОГ. Выяснилось, что помимо Дмитрия Данилова в АРТКОММУНАЛКЕ проживал его товарищ, некий Алексей Михеев, обозначенный на ВИКИПЕДИИ как «литературный функционер», и тексты они писали на пару. Вновь начну с корявостей, допущенных при оформлении материала и бросающихся в глаза. Первое – название. Собственно, слово «травелог» является достаточно редким, на русском звучит неудачно – создаётся ощущение, что это изучатель травы – и не ясно, зачем его популяризировать, когда есть приятные русские словосочетания со схожим смыслом, типа «путевой очерк», «путевой дневник», «путевые заметки», «заметки путешественника», «краеведение» и проч. Казалось бы, название КОЛОМНА. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ звучало бы куда привычнее. Далее, на главной странице сайта, посвящённого этому тексту, написано следующее: «На этой странице представлены тексты, описывающие акции, реализованные авторами в период пребывания в резиденции «Арткоммуналка» (26 мая – 25 июня 2016 года). Это несколько поездок на коломенских трамваях: три совместных, шесть индивидуальных и одна коллективная, с участием жителей Коломны». При этом в наличии пять разделов – О ПРОЕКТЕ (упомянутая главная страница), ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКЦИИ (включает в себя три акции, каждая из которых осуществлялась и Даниловым, и Михеевым по отдельности), СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ (тоже три), КОЛЛЕКТИВНАЯ АКЦИЯ (восемь текстов различных авторов), ВНЕ ПРОЕКТА (два текста – один Данилова и один Михеева). Совместные акции, кроме последней, происходили порознь. Участники коллективной акции также ездили на трамваях отдельно друг от друга, так что можно утверждать лишь то, что акция была коллективной, а не поездка. Один из текстов раздела КОЛЛЕКТИВНАЯ АКЦИЯ принадлежит человеку, не принимавшему участия в коллективной акции. Если ещё учесть, что одна индивидуальная акция Михеева происходила при участии Киры Михеевой, то стоило бы написать так: «На этой странице представлены тексты, описывающие акции, реализованные авторами в период пребывания в резиденции «Арткоммуналка» (26 мая – 25 июня 2016 года). Это несколько поездок на коломенских трамваях: две совместных и пятнадцать индивидуальных, в том числе совершенных жителями Коломны, а также два текста из раздела ВНЕ ПРОЕКТА». Если же говорить не о поездках, а об акциях, то их было всего семь, просто три индивидуальных требовали исполнения двумя отдельными людьми дважды. Таким образом, второй вариант верного описания таков: «На этой странице представлены тексты, описывающие акции, реализованные авторами в период пребывания в резиденции «Арткоммуналка» (26 мая – 25 июня 2016 года): три индивидуальных, три совместных и одна коллективная, при участии жителей Коломны и одной жительницы Воскресенска, а также три тематически близких текста, не являющихся описанием акций. Содержанием акций являлись поездки на коломенских трамваях по определённым регламентированным правилам». А в текущем виде получилась ненужная путаница, хотя, казалось бы, надо было вразумительно написать всего один абзац.
Тут же поясню, зачем я столько раз описываю свои мелочные придирки. Возможно, лучше было бы закрыть на них глаза и описывать только сами авторские тексты, но, пока читаю, обращаю внимание и на прочие детали. Так как настоящая статья – это подробный результат эксперимента СИДИ И ЧИТАЙ (в других случай – ЛЕЖИ И ЧИТАЙ или СТОЙ И ЧИТАЙ – когда чтение происходит во время перемещений по городу), а восприятие репрезентации действительно имеет место быть, то всё это и попадает в мой отчёт…
??. 02.17
И вот, прошло три года. Фрагмент о произведении из АРТКОММУНАЛКИ не был тогда дописан мной до конца, и я даже не знаю, в какой день я оборвал статью. Так или иначе, сам по себе текст Дмитрия Данилова из АРТКОММУНАЛКИ показывал определённую исчерпанность его подхода на тот момент – эксперимент был малоудачным, в текстах чувствовалась его собственная утомлённость, написаны они были без азарта, впоследствии нигде не издавались. Но этот небольшой кризис Дмитрий Данилов быстро сумел преодолеть, сделавшись драматургом. Можно с уверенностью сказать, что ДРАМАТУРГИЯ открыла новую страницу в его творчестве, с тех пор он написал ещё несколько пьес, все они были признаны публикой и поставлены – и его работа в театре продолжается и сейчас, активно освещаясь в прессе. Таким образом, с точки зрения логики настоящей статьи вышло очень удачным, что я ничего не успел тогда написать о пьесе ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА, хотя и прочитал её – рассмотрение творчества Дмитрия Данилова завершается вместе с его конкретным творческим этапом, а подводить итог следующему этапу пока что нет никакой возможности. (Разве что можно отметить, что на новом этапе Дмитрий Данилов не только продолжил развивать сорокинские мотивы, но ещё стал творчески близок другому выдающемуся современному отечественному писателю – Дмитрию Убызу. Это сходство ранее почти не прослеживалось и кажется неожиданным и удачным, тем более что повлиять напрямую друг на друга они явно не могли. – Прим. И.С. 2020)
Надо сказать, что все эти годы я часто мысленно возвращался к настоящей статье. Для её окончания оставалось всего-то немного. Даже сам Данилов часто невольно напоминал о себе, попадая в поле моего зрения по различным каналам. Например, работая над книгой СЛЕДЫ НА СНЕГУ я вызнал, что оказывается Мирослав Немиров не просто общался и сотрудничал с Дмитрием Даниловым в рамках ОСУМБЕЗ, но, по воспоминаниям Гузели, ещё и вдохновил его на написание повести ЧЁРНЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, сказав, что жизненный материал Дмитрия требует того, чтобы быть описанным в форме художественного произведения. Потом, когда человек прислал мне своё расследование о ПОСТОЙКЕ, я не сдержался и перекинул его Дмитрию Данилову, а в ответ он написал: «Приветствую! Спасибо!» Потом я распространил в ЛУКОШКЕ со страницы Дмитрия Данилова его стихотворение о доме Егора Летова, после чего Дмитрий Данилов подписался на ЛУКОШКО. Потом я начал случайно сталкиваться с Дмитрием Даниловым лично – на концерте реюниона ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, на поэтическом вечере Владимира Богомякова, на показе пьесы ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА и ещё на какой-то малоинтересной театральной постановке, куда меня занесло. В четвёртый раз я уж не сдержался, улыбнулся и, не пытаясь вступить в разговор, поздоровался с ним – встретив доброжелательность в ответ. Этот случай уже прямо-таки обязал меня довести задуманное до конца! Всего-то и потребовалось, что вдумчиво перечитать весь текст, произвести стилистическую правку, продумать и обсудить с Денисом Серенко обложку, добавить несколько комментариев да несколько завершающих абзацев.
Хотя на этом я не остановился. Проделав работу над статьёй, я не удержался и прочитал все основные вещи, изданные Дмитрием Даниловым с февраля 2017 года. На это ушло всё оставшееся время сегодняшнего дня, а за статью я сел почти сразу, как проснулся. В итоге прочитаны были: два сборника стихов – СЕРОЕ НЕБО (2017) и ПЕЧАЛЬ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО (2018), три пьесы – СЕРЁЖА ОЧЕНЬ ТУПОЙ (2017), СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ (2018) и ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ? (2019), рассказ НАШ ЧЕЛОВЕК (2017) и либретто ПУТЬ К СЕРДЦУ (2017).
Все эти вещи
Опять получились
У Дмитрия Данилова
Удачными и приятными
Местами задумчивыми
Глубокими
Сильными
И раскрывающими что-то нужное.
Он не повторялся
Не повторялся
И сумел в каждой вещи
Добиться некоторого эффекта
Который действует
На читателя
Должным образом.
В том числе
И на меня.
Новый этап творческой деятельности
Дмитрия Данилова
Не менее хорош
Чем предыдущий
Его этап.
Как замечательно
Что в мире есть писатель
Дмитрий Данилов
Дмитрий Данилов.
А нужный самый последний абзац был заблаговременно записан мной в недатированном куске от февраля 2017 года: «Пришло время подвести итог. Дмитрий Данилов относится к той редчайшей категории современных отечественных писателей, творчество которых можно читать в полном объёме, да не просто читать, но ещё и получать от этого большое удовольствие. Если человек любит жизнь и считает её захватывающей и интересной, то книги Дмитрия Данилова также покажутся ему очень интересными и замечательными. Если человек недоволен жизнью и считает её скучноватой, то книги Дмитрия Данилова ему также понравятся, просто потому, что они крайне хороши. И всё же найдутся люди, которые не захотят читать книги Дмитрия Данилова, или же сочтут их неудачными. Да, наверняка найдутся и такие люди. Ну а что делать».
29.02.20
Картинки-обложки нарисовал художник Денис Серенко.
4 notes
·
View notes
Text
Интервью с Наташей Ильминской (Nož Nad Lesam)
Организуемый нами однодневный фестиваль женского вокала СИРИН В ЛУКОШКЕ пройдёт 16 февраля 2020 года в МСК. В рамках информационной кампании Иван Смех взял интервью у Наташи Ильминской, лидера группы Nož Nad Lesam и участницы фестиваля.

Иван Смех: Ваш дебютный альбом вышел в 2016 году. Почему вы не начали заниматься музыкой собственным творчеством раньше, например, ещё будучи подростком? Казалось бы, ваши музыкальные пристрастия (речь о сибпанке, формейшене и т.д.) располагают к следованию принципу ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС, да и инструментами, как я понимаю, вы научились владеть задолго до указанного дебюта.
Наташа Ильминская: Будучи подростком, я занималась другими вещами. Много валяла дурака. Меня больше увлекала визуальная сторона искусства: фотография, живопись. После музыкальной школы надо было передохнуть. Процессы записи и сведения музыки казались слишком невообразимыми, да я и не пыталась.
Конечно, бренчала что-то на гитаре, как и все… Панк-рок всё спишет (смеётся). Мои «музыкальные пристрастия» значительно шире вышеописанного, поэтому было сложно определиться, со следования какому принципу начать? Тогда ещё не пришло время. В основном меня подтолкнули к действию разнообразные шумовые и индустриальные течения, которыми я увлеклась много позже.
И.С.: А можно подробнее об этом? Что вдохновило? Чьи творческие традиции вы продолжаете, если такое имеет место быть?
Н.И.: Не думаю, что я продолжаю чьи-то ��радиции планомерно. Я слишком много всего перемешала, это может быть разделимо со стоны, но не изнутри. Cold Meat Industry, Galakthorrö, Tesco Organisation, английское эзотерическое подполье…. Перечислять можно долго.
Был этап высечения конкретной формы из неопределённой глыбы. Martial industrial и power electronics вдохновляли своей волей, яростью и глубокой отрешенностью отсюда. Шумовые эмбиентные пласты, рождавшие море видений… Ну и, конечно, куда же без дарк-фолка: созерцание природы и сокрытых её движений всегда к чему-то приводит. Я занялась конкретной музыкой. Записывала всё, что издаёт звук – как правило, наименее музыкальное. Строительные инструменты люблю с детства. Родители говорят, я научилась ходить, когда тянулась за гаечным ключом на 24.
И.С.: После вашего дебюта события также развивались неспешно – второй альбом вышел совсем недавно, т.е. с разницей примерно в три года. Вы занимаетесь творчеством от раза к разу, или на создание каждой композиции уходит много времени? Расскажите, какой путь проходит музыкальная композиция от начальной задумки до реализации.
Н.И.: Это называется не неспешно – а с грубыми временными разрывами на решение внутренних и внешних проблем. Уносящие потоки неотложных отложенных дел, взятие штурмом новых морей и счастливое увольненье на берег. Поиск и потеря смысла, себя, работы и прочая требуха, из которой состоит наша жизнь, если выбросить оттуда начинку. Да и вообще, просто жить, пока не умрёшь, – уже тяжёлая работа. Только год назад у меня появилось место, где я могу свободно заниматься записью, когда этого захочу я. Вот я и записала альбом.
В процессе сочинения постоянно находятся какие-то вещи, но для доведения до конца действительно требуются силы. Во-первых, я всё делаю одна, и самое сложное здесь – принятие решений, определяющий выбор и поиск момента, когда нужно поставить точку.
Вначале всегда появляется образ, ощущение, несколько слов, из него вырастает звук, затем ритм. А потом это всё нужно сложить в структуру, выловить из пространства оставшиеся слова. Но бывает, что сразу появляется мелодия, а за ней дорисовывается всё остальное, будто проявляется фотоплёнка.
И.С.: Насколько, по вашему мнению, различаются два альбома, разделённые такой временной дистанцией? Как бы вы описали их сами?
Н.И.: Первый альбом вышел более разношерстный, тёмный. Я недавно его переслушала и подумала – чёрт, круто было, куда всё делось? Ах да, я же хотела уйти от этого (смеётся). Во втором я пыталась примирить между собой все углы первого альбома, задать единый вектор. Хотелось больше тяжелой гитары, уже не хочется. Теперь хочется несколько другого… Так что начинаю очередное движение от.
И.С.: Расскажите, пожалуйста, о своей творческой деятельности помимо НОЗ НАД ЛЕСАМ.
Н.И.: Лет семь назад гр. ЛЕНИНА ПАКЕТ пыталась втянуть меня в свою творческую деятельность, достаточно безуспешно, но мы что-то сыграли вживую. Потом был небольшой кавер-проект с Александром «Лешим» Ионовым («Регион-77») с англоязычными песнями в духе «кантри-энд-вестерн». Тогда же я начала свои первые экспериментальные записи и появился NOZ NAD LESAM. И, пожалуйста, хватит коверкать название, буква Z с чёрточкой сверху на чешском читается как «Ж», а не «З»! Затем посчастливилось принять участие в записи альбома гр. «КооперативништяК» (Кирилл Рыбьяков) под названием «Финиш, Ясный Сокол». Там есть мои клавиши и голос. Так же Иван Смех привлекал к участию в своих проектах, кое-где присутствует мой бэк-вокал, ещё я делала музыку к совместным песням. Этой осенью мы вместе выступали с каверами на хиты сибирского панка в составе НОВАТОРОВ АВАНГАРДА. Так что – не могу не сказать ему СПАСИБО за планомерную раскачку и активизацию! А ещё я очень горжусь совместными треками с группой ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ (Роман Коротков), которая вдохновляет меня постоянно. Надеюсь, что-нибудь ещё натворим!
И.С.: Спасибо! Вот такой ещё вопрос: на обоих альбомах присутствуют песни на стихи Платонова. Каковы ваши взаимоотношения с ним? Чем он близок?
Н.И.: У Платонова бесконечно много вопросов, над которыми ум человеческий бьётся из стороны в сторону, от света к тени, как теннисный мячик. Как воланчик, который ты отбиваешь ракеткой, и он улетает неизвестно куда. Ракета шипит, взлетает, воланчик приземляется…. Наконец отыскав его, ты находишь вместе с ним что-то ещё, раздвигаешь траву, и двери, скрипнув, пропускают тебя…
Поиск пустоты как простора для действия, и побег от пустоты как от обветшалости и смерти. Борьба упрямой человеческой силы с нежным ростком природы. Который, в свою очередь, может обернуться разъярённой стихией и уничтожить всё человечество. Смерть – одна из главных тем в творчестве Платонова. Умирание, как известно, – увлечение на всю жизнь. Успеет ли прах превратиться в новую плодородную землю или станет мусорным ветром, бесприютно скитающимся по дорогам земли? Это то, что необходимо узнать.
И.С.: И последнее. Какую глобальную задачу вы ставите перед собой, занимаясь творчеством? Чего бы вам хотелось добиться в лучшем случае? Какую отдачу вам бы хотелось видеть? Есть ли какие-то далёкие цели?
Н.И.: Никакой. Мой мир не офис и не колхоз – целей, планов, достижений в нем не существует по
определению. Я просто отражаю то, что впитываю, и мне это нравится. Нравится находить «своих»
и создавать что-то вместе, ради самого процесса и разгадки, того, что получится в конце концов.
В лучшем случае мне хотелось бы не останавливаться. Если мою музыку кто-то слушает – это уже
отдача. Любое занятие творчеством – в первую очередь, метод познания собственных границ и
горизонтов. Мы все собираем пазл, кому-то удаётся собрать большую часть, кому-то меньшую. Даже когда не ждёшь и не ищешь, что-то находится и встаёт на свои места просто потому, что процесс уже запущен. Так и должно происходить.
1 note
·
View note
Text
Интервью с Ксенией Ат
Организуемый нами однодневный фестиваль женского вокала СИРИН В ЛУКОШКЕ пройдёт 16 февраля 2020 года в МСК. В рамках информационной кампании мы попросили Тимура Селиванова взять интервью у Ксении Ат, участницы фестиваля. Интервью получилось весьма подробным!

Тимур Селиванов: Твой жизненный интерес, твоя тема сейчас – это репрессии, лагеря. При этом ты писала, например, что Шаламова прочла ещё в раннем отрочестве. Получается, эта тема внутри тебя зрела, а дело Дмитриева стало спусковым крючком?
И ещё – как ты соотносишь свою обыденную жизнь с погружённостью в лагерную тему, экзистенциально очень нагруженную? Умеешь ли ты с ней обходиться так, чтобы она тебя не поглощала полностью?
Ксения Ат: Дело Дмитриева действительно было спусковым крючком. Когда я впервые прочла о нем, то поняла: «Надо ехать, это оно, это то самое». Похоже на то, когда ты инструмент выбираешь: попробовал сто гитар, а потом одна, может быть, даже не самая лучшая – и это именно она, единственная «твоя». Это какие-то вещи, которые тебя заставляют жить, резонируют со всем твоим существом.
В детстве, лет с одиннадцати, мне очень нравилось читать мемуары военного периода, что-то связанное с военнопленными – советскими или немецкими, лагерями, условиями заключения. Как человек, на первый взгляд, совершенно к ним не готовый, какой-нибудь интеллигент, выживает, как происходит воспитание духа. Для меня эта тема никогда не была мрачной, для меня она – про преодоление самой жуткой ситуации, которую ты можешь вообразить, и про создание нового пласта творчества в этом поле. Тот же Шаламов или Георгий Демидов – это прекрасные писатели, которые сформировали новую веху русской культуры, по-новому ответили на вопросы: «Что такое мораль? Что такое человек? Что такое счастье?».
Сейчас мы живем в комфортных условиях – я, например, могу работать удалённо, в том числе и зарабатывать творчеством или стримами и не париться. И важно помнить, что так было не всегда, а откат всегда возможен. Это помогает ценить каждый момент счастливой жизни, которая есть сейчас. Всё может измениться когда угодно – самолёт может на мой дом упасть, или я под поезд упаду. Напоминание о том, что есть другая жизнь, гораздо более тяжёлая, помогает ценить каждый момент жизни и делать больше хороших вещей, чем плохих.
Я хожу на гештальт-терапию, даже не из-за личных проблем, – она помогает мне в творчестве. Если у меня затык, гештальт для этого прекрасно подходит: ты ковыряешься, находишь какие-то новые части себя, в творчестве это лучший гид. Пару месяцев назад я ходила к психологу как раз по такому поводу: я поняла, что в лагерной теме я начинаю акцентировать своё внимание только на страданиях. Долго писала только страдальческие песни, и мне это совершенно стало не нравиться, в этом тоже есть мертвечина какая-то. Да, конечно, лагеря – это про страдания, про массовые убийства, это страшные вещи. Но всё-таки многие из тех людей, которых я уважаю, книги которых я читаю, знали, на что они идут. Это был очень сильный, волевой поступок – заниматься тем, чем они занимались, зная, что их ждет. Некоторые из них сами, осознанно пошли на смерть – но они прожили смелую жизнь, реализовали такие вещи, которые никто кроме них вообще не реализовал. Многие из расстрелянных в Сандармохе – цвет русской интеллигенции: фотографы, геодезисты, биологи, религиоведы… ��ни не испугались, они пошли в страх смело. Я поняла, что не хочу их только оплакивать, я хочу говорить о торжестве их смелости, об их жизни.
У Демидова есть рассказ «Дубарь», про то, как он хоронил мёртвого младенца в вечной мерзлоте. Звучит довольно жутко. Но после прочтения наполняешься светом, потому что в нём заключена огромная сила – сила дерева, прорывающего асфальт. Она открывается только очень свободным людям, и каждый раз удивительно наблюдать, как настоящая свобода и сила духа формируются в условиях, максимально враждебных для человека.
Т.С.: Можно ли говорить о лагерной прозе как о чисто литературных текстах, отвлекаясь от всего фактического «бэкграунда»? Очень грубо говоря, можно ли сопоставлять литературу о репрессиях, например, с прозой маркиза де Сада?
К.А.: А я всегда смотрю на эти тексты как на литературу, для меня это не документы. Документ – это расстрельный рапорт, прописанные условия заключения. Всегда, кстати, интересно бывает прочесть книгу, а потом посмотреть, где кто сидел, какие фактически были условия.
Мне очень понравилась книга врача Шаламова, Бориса Лесняка, всем рекомендую его прочесть. Это такая мемуаристика-документалистика. Он много рассказывает о Шаламове, о том, как они с женой его спасали, там приводится много фактических документов. И вот, Лесняк вспоминал, как они с Шаламовым обсуждали его рассказы. Лесняк в них тоже фигурирует, он часто был гиперболизированным героем, иногда он в них умирал… Это рождает какое-то спокойствие, ты понимаешь, что Шаламов тоже понимал это как литературу.
Противники, оголтелые последователи советской идеологии, которым что ни скажи – всё неправда, часто упоминают: «Вот Солженицын сказал: “сто миллионов репрессированных”, а на самом деле…» Чистейшая демагогия – связать литературу и документ. Это очень несерьёзно, никто не оперирует цифрами из художественной литературы, не ссылается на неё в научных работах о репрессиях.
Много интереса было к теме сибирских репрессий после того, как вышла книга «Агнесса» про жену начальника ОГПУ-НКВД по Западной Сибири. Книга замечательная, вызывает тошноту на протяжении всего её чтения. Это, понятное дело, не документ, но может возбудить интерес – посмотреть, как фактически обстояло дело. Литература может возбудить интерес к документу, но никто ей не оперирует.
Шаламова, Демидова, Олега Волкова я считаю прекрасными писателями. Даже если бы они вообще не сидели, и всё, что они написали, было бы ими выдумано, – их книги остались бы прекрасной литературой. Волков – самый долгий сиделец, он пробыл в лагерях около 25 лет. Его знаменитая книга – «Погружение во тьму».
Недавно у меня были жаркие споры о Евгении Гинзбург. Помню, как читала её в школе, и она у меня вызвала непонятное ощущение, которое обычно подобная литература никогда не вызывала. Я подумала, что совершенно не верю в то, что происходит в книге. Обычно у меня при чтении лагерной прозы снижена критика. Но у Лесняка, например, упомянуто, как врачи спасали Гинзбург – её, как и Шаламова, устроили работать в больнице, а она в своей книге писала про злых врачей. Каким мемуарам верить? Я понимаю, что это литература, что она написала про злых врачей, чтобы гиперболизировать весь ужас ситуации. Но мне и как литература «Крутой поворот» не нравится, это такой нарциссический памфлет. Я лучше, опять-таки, Демидова прочту, который вдохновит меня жить каждый день как последний. Получается, тут всё неразрывно – и литература важна, и персона самого писателя. Если она слишком сильно выпячивается, мне уже неинтересно.
Т.С.: Насколько ты погружена в историю российских репрессий? Можешь ли ты проследить связь от декабристов, каторги и ссылок народовольцев – до диссидентов и современных сидельцев-антифашистов? Чувствуешь ли ты себя осведомлённой по этим темам? Каких менее известных авторов ты можешь посоветовать?
К.А.: Могу сказать, что начитана по теме Большого террора и вокруг него, с 30-х до 50-х годов. Мне интересен момент, когда вся власть была в руках красных, когда была максимальная концентрация зла. Мы сейчас читаем про какого-нибудь, прости господи, карельского майора и ужасаемся: «Как же это может быть в наше время?» – а тогда таких майоров было очень много. В 30-е всё, как в «Красном смехе» моего любимого Андреева, становится красным от крови, мир тонет в крови.
Тут важна ещё позиция человека и государства: в 30-х происходит важный перелом. Формируется новый строй, людям нужно себя резко самоопределить, и это самоопределение не связано с тем, сколько ты денег заработаешь, а с тем, будешь ты жить или нет. Происходит резкий и важный переход, и сама жизнь от этого становится ценной, яркой и более концентрированной, что ли.
Вся лагерная мемуаристика очень разная. Когда ты начинаешь её много читать, ты понимаешь, насколько эти тексты отличаются друг от друга: кто-то рассказывает про страдания, кто-то про людей, кто-то выстраивает линейное повествование в связи с изменениями в государстве. А, например, у Даниила Алина в книге «Мало слов, а горя реченька» детально рассказывается про судебный процесс. Настолько это похоже на то, что происходит сейчас, что мне уже неинтересно читать ужасы на «Медиазоне». Я и так всё время это ем-ем-ем, если я начну ещё и современное читать, то буду бояться каждого куста на улице.
У меня есть друзья, которые сидели в тюрьмах, в СИЗО, и они приходят ко мне: «Давай я всё тебе расскажу, а ты послушаешь». Многим кажется, что я люблю такие истории, но, на самом деле, не очень. Если будет выбор: читать про современных заключенных антифашистов или хорошую французскую прозу о любви, я выберу второе. Мне интересно читать разное и новое.
Кроме уже названных авторов могу посоветовать Марлена Корал��ова – многие его знают по колонкам в «Новой газете». Его книга «Антиконтра» – это настоящий боевик с пацанскими разборками между зека. Что-то типа фильма «Таксист», он Скорсезе среди лагерных писателей. Читаешь и удивляешься: «Человека могли убить в ту же ночь, а он всё равно пошёл против – и выжил, и спасся, и смог».
Тут, кстати, вопрос: а осталось бы столько ценного литературного наследия, если бы чисток не было? Думаю, да, а может быть, больше, но можно думать, что это злое время сыграло – и произошла концентрация энергии.
Т.С.: Ещё одно уточнение, тоже этическое, и отчасти заостряющее тему, которую мы выше уже поднимали. У Овсянкина есть строчка: «Можно читать “Голод” Кнута Гамсуна и одновременно есть самсу». Сложно ли возвращаться от чтения следственных дел к повседневной жизни?
К.А.: Да, суперсложно. Я на пару месяцев взяла перерыв и осознанно ничего на эту тему не читаю. Если постоянно задаваться вопросами: «Ну как так? Ну почему? А что такое вообще жизнь, если она бывает вот такой?» – начинаешь падать в жуткую депрессию. Я два года вставала с мыслью: «Так, вчера не дочитала те документы, надо их прочесть» – и я читаю все эти пофамильные списки, думая: «А вдруг кто-то знакомый?» Всё время была в этом.
Меня в своё время поразило, как Кравченко отзывался о съемках в фильме «Иди и смотри». У детей был кастинг, на котором показывали кадры военной хроники, а после предлагали съесть торт – он был единственный, кто не стал, не смог. За два года у меня тоже появилось это чувство тошноты постоянной. В музее ГУЛАГа есть документ о том, как НКВД-шник в Соловках обезумел и набросился на заключенного, который пытался убежать. Он его не только забил до смерти, но и принялся откусывать от него куски мяса. После такого действительно есть не очень хочется. И этого очень много – Назинская трагедия, например, один из самых громких случаев массового людоедства в сталинское время (а их было намного больше, чем об этом говорят, но тут совсем по дьяволу история), Колпашевский яр – где винтами буксиров перемалывали трупы расстрелянных, которые всплыли при разливе реки. Это настоящий некрореализм, воплощенный акт некрореализма. Как это вообще может существовать? Нет ответа, и, если часто задаваться такими вопросами, начинаешь сходить с ума.
Однажды в «Мемориале» мы с моим любимым человеком разбирали литературу, в какую часть архива определить ту или иную книгу или тетрадь – и нашли очень много всего интересного, была даже музыкальная газета «Перековка» для соловчан (с «нотами песен, рекомендованных к вечернему пению»!). Но больше всего меня поразили мемуары школьников, которые честно писали: «Сегодня забрали того-то, а сегодня этого, а сегодня нам так надоела учительница, что мы решили объявить её врагом народа. Она очень разозлилась. Потом забрали тех, кто всех забирал, и так мы и не поняли, кто же враг народа». И всё это написано таким обыденным языком, что…
Т.С.: …звучит как абсурдистский рассказ.
К.А.: Этим мне нравится Россия – в ней многие идеи доведены до максимума и стали реальностью.
Сейчас я отдыхаю от этой темы и пишу, помимо связанного с репрессиями, ещё один альбом. Готовых альбомов у меня уже лежит штуки четыре, я их не издаю, думаю: «Нет, вот там ещё гитарку нужно подсвести, а там ещё что-то…» И репрессии прекрасно наложились на моё вечное недоделывание чего-то и очень засосали. Может быть, я закончу альбом про них и надолго отойду от этой темы, буду смотреть по состоянию. Может, буду вести блог или стримы с короткими историями про это всё.
Я не могу сказать в интернете всё, что я хочу, и всё, что знаю, не вызывая проблем. Но при этом, тихо делая какие-то вещи, я приношу больше пользы, чем если я скажу об этом громко, и за мной придут. Много остаётся недосказанного, мы возвращаемся в период полунамёков. Мне иногда кажется: «А не полезнее ли будет, если я сделаю что-то музыкальное, выплесну это полностью в бессловесную форму? Будет понятно, что я имею в виду, но к этому не прицепишься, обвинить в чём-то меня будет нельзя».
Т.С.: Ты серьёзно опасаешься каких-то последствий?
К.А.: Я дикий параноик – только меня тронь, я начинаю бояться. При этом я не люблю в себе страх и изгоняю его тем, что всё время лезу туда, где страшнее. И когда мы были в Сандармохе и следили за раскопками, нас от дома до самого леса подвозил один и тот же человек – а впоследствии оказалось, что это полицейский. Ты теряешь бдительность на секунду, но всегда есть кто-то, кто слушает тебя. Такие ситуации порождают неприятное ощущение, что ты не один в комнате.
Т.С.: Если я правильно понимаю, ты склонна в интересующей тебя теме копаться, разбираться детально – например, ты отсмотрела много перестроечных соцдрам и позднее провела познавательный стрим про них. Какие ещё темы и направления, кроме репрессий, были или будут для тебя важными?
К.А.: Конечно, этнография Юго-Восточной Азии. Я выросла во Вьетнаме, и эта связь во мне неубиваема. Я очень много ковырялась в музыке этого региона, её происхождении. Мне всегда был интересен музыкальный строй – почему, например, европейский стал универсальным, а в Китае и во Вьетнаме музыка совсем другая, даже между собой, несмотря на близость регионов? Почему российская гусельная традиция отличается от финской? Я ставлю какой-нибудь старый эфиопский прото-джаз (да, ещё Эфиопия – моя страсть) друзьям или маме, спрашиваю, что человек чувствует – и в целом люди описывают одно и то же. Почему какие-то звуки вызывают у нас похожую гамму чувств – а какие-то вообще ничего? Почему многие не любят современную поп-музыку, считают, что она бездушная? Музыка, её теория и история всегда мне была интереснее всего.
У меня есть плохая привычка – я очень много всего выкапываю, а потом ничего с этим не делаю и впадаю в депрессию: «Мои знания никому не нужны, я не знаю, как их выразить, и вообще это всё бесполезно», – либо задалбываю своих знакомых до того, что они кричат: «Я не могу больше твоё перестроечное кино смотреть, убери его от меня!» Поэтому формат стримов для меня подходит, я надеюсь, что запишу стрим о японском кино, которого я куботонны пересмотрела, все фильмы Кэндзи Мидзогути, а это очень много (83, если верить «Кинопоиску». – Прим. ред.), ходила на фестивали немого японского кино, где бэнси, специально обученные люди, озвучивали субтитры. Эта традиция появилась с распространением кино в Японии. Бэнси путешествовали по деревням вместе с оркестром традиционных инструментов – кото, сямисэном.
Однажды в Москву на показ «Белых нитей водопада» приезжал участник съёмочной команды Мидзогути. Фильм трагический, я под конец начинаю рыдать – а этот пожилой японец доволен, что фильм произвел эффект, снимает меня на камеру и машет рукой: «Привет! Круто! Поплачь ещё на камеру!»
Т.С.: Ты сразу же перестала?
К.А.: Нет, потом я его долго благодарила, и он тоже чуть не прослезился. Было очень трогательно.
Кстати, я тоже играю на кото – и там столько недоделанных вещей, просто бездна. Не знаю, что с этим делать. Когда я покупаю новый телефон, планшет или компьютер, то говорю себе: «Так, сюда на диктофон я не буду записывать ничего, кроме очень важного». Проходит полгода – и там 500 демок. Смотрю я на это и думаю: «Ну, буду делать что-то новое».
Т.С.: У тебя есть внутренний ценз на то, чтобы выкладывать демки?
К.А.: С одной стороны, я хочу, чтобы всё звучало как сырая старая запись, а с другой стороны, я слушаю свой материал после какой-нибудь студийной записи группы The Sound и понимаю, что моё звучит как говно. Так как я ещё звукорежиссёр, и это моя вторая страсть после музыки – она стоит даже, наверное, перед историей музыки. Все вот эти примочки, плагины, конденсаторные микрофоны, компрессоры – обо всём этом могу часами вещать, на студии люблю работать. И во мне всё время спорят музыкант и звукорежиссёр. Музыкант просто хочет делать музыку, а звукорежиссёр говорит: «Нет, здесь нужен был вот этот микрофон. У тебя его нету, Ксюша. Пока он не появится, ты эту песню не сделаешь!» – и я: «Эх, ну ладно, сделаю что-нибудь другое…» Пока не знаю, как эту проблему решить. Наверное, просто заставить звукорежиссёра замолчать.
Т.С.: Но «Песенки Севера» ты же всё-таки выложила перезаписанной на кассету.
К.А.: Как мне казалось тогда, это самая ужасная запись по звукорежиссуре, которая у меня была. Например, песня «Платьице» ужасно записана, на концертах она гораздо лучше звучит, в сотню раз. Но через какое-то время звукорежиссёр забывает, что там было не так. Ты просто слушаешь это как произведение и думаешь: «Да всё окей, вроде бы, и людям нравится».
Т.С.: А как ты воспринимаешь свою музыку? Нет ли у тебя стеснения себя хвалить, например? Можешь ли ты воспринимать свою музыку отдельно от себя?
К.А.: Я стараюсь часто включать такого слушателя. Вообще, многие мои друзья и я всецело за идею, что нужно записывать такую музыку, которую ты сам будешь слушать. И очень часто получается, что такую музыку слушать буду только я. В такие моменты я задумываюсь: «Что за хрень, нужно сделать что-нибудь для слушателя». И есть такие песни, в которых мне прямо хочется поговорить со слушателями, я хочу, чтобы меня услышали и дали ответ. Это всегда работает, люди как-то чувствуют, что нужен их отклик.
Т.С.: Какие-то конкретные люди?
К.А.: Нет, просто мне массово начинают говорить: «Блин, вот эта песня самая лучшая». А я специально её делала про них, про наше время – например, «Антарктида» – новая моя песня, которую я исполняла на концерте и никак не соберусь записать. Про холодные снега, про Россию. На неё пришел большой отклик.
Я, конечно, стараюсь делать всё ��реимущественно для себя – но, с другой стороны, можно уйти в такое задротство, далеко-далеко. Например, раньше я часто попадала в ловушку, которую сейчас пытаюсь избегать: очень долго делаешь музыку и погрязаешь в ней, а не в том чувстве, которое хотел выразить. Теперь я себе ставлю неделю на одну песню. За неделю не получилось – всё, она откладывается куда-то, я не буду сейчас с ней работать. С другой стороны, интересно делать песни годами – ты с ними разговариваешь, они же живые, в них есть какая-то вещь, тебе неизвестная. Это всё время диалог с чем-то – может, с компьютером, не знаю. Но очень важно себя останавливать.
Т.С.: А у тебя есть какая-то ответственность перед слушателем, думаешь ли ты, что лучше выложить что-то, а не ничего?
К.А.: Не-а. На концертах часто людей почти нет – получается, меня до сих пор никто, кроме друзей, не слушает. Не могу ощутить, что есть реальные слушатели. Есть примерно 50 подписчиков, которым нравится всё, что бы я ни выложила. Они же меня знают, знают, что раз в год или даже в пять лет я что-то выдам. Мне кажется, это надо налаживать, это какая-то психическая проблема – когда человек не чувствует ничего вокруг себя.
Я тоже нарцисс, как и многие творческие люди, но у меня не нарциссизм Понасенкова. Он, по крайней мере, столько всего делает, а у меня нарциссизм, направленный внутрь себя, и реализоваться я никак не могу. Получается бесконечное обсуждение всего с собой.
У меня сейчас появилась гитара, прекрасная, удивительная, которая была придумана Куртом Кобейном. Звучит абсолютно нереально. На ней я пишу всякий рокешник в блюзовом строе, что для меня очень необычно – но это так меня освобождает, я думаю: «Вау, так я всегда любила блюз!» До этого всё ругалась, что это самая неблизкая мне музыка. И я очень надеюсь, что с этой гитарой начну делать больше релизов.
Т.С.: А насколько для тебя важно мастерство, владение инструментом – по отношению и к своей, и к чужой музыке?
К.А.: Я вроде бы на всём подряд играю, но плохо. Дико уважаю тех, кто умеет хорошо играть. У меня есть знакомые композиторы, которые говорят: «Ну, это всего лишь хороший исполнитель», – а у меня никогда не было пренебрежения к людям, которые отлично играют, наоборот, круто, что они столько времени потратили.
Я бы хотела освоить гитару так, чтобы свободно играть со всеми моими друзьями и подхватывать их на лету. Когда ты можешь импровизировать на инструменте – это хорошая стадия. На пианино я много чего могу подхватить, на генеративном синтезаторе – вообще как нефиг, потому что я за ним больше всего времени проводила. Кото я понимаю довольно хорошо. В общем, когда начинается свобода владения – тогда ты и решаешь: «Мне важнее писать песни» или ещё что-то. Я решила, что буду писать песни прямо сейчас. Раньше я всегда училась-училась-училась, потом уставала учиться – а песни за это время уходили, умирали во мне. А сейчас: я сегодня знаю три аккорда, значит, буду играть на трех аккордах, завтра выучу четвёртый и буду играть на четырёх. Насколько могу, настолько и выражаю. Мне кажется, это честнее и живее.
Т.С.: Завидуешь ли ты музыкантам, которые включались в запись альбомов и концертов, принципиально не умея играть? Имею в виду, например, The Shaggs, DNA или Mars.
К.А.: Наверное, нет, мы по разным тропам идем с музыкантами, которые отрицают любую школу. Я училась два года в консерватории по классу кото и тогда я поняла, насколько ценно образование. Именно японская школа в этом смысле удивительна: ты избегаешь жуткой европейской системы сольфеджио, но всё равно начинаешь понимать, как оно всё устроено. Ты не проходишь нудные построения, а полностью полагаешься на слух, ощущения.
Я всё-таки люблю изысканный и сложносочиненный сайкоделик-рок: Jefferson Airplane, 13th Floor Elevators, Silver Apples, Les Rallizes Dénudés… Элвиса обожаю, Бобби Винтона – треки, записанные на золотые микрофоны, торжество записи 50-х. Мой звукорежиссёр в это время как будто ванну принимает. При этом то, что записано плохо, но живо, меня всегда восторгало, но я слишком задрот, чтобы позволить себе такое делать. Я завидую разве что их смелости. Они позволили себе быть неидеальными. Это смелый, классный подход.
Т.С.: Повторюсь – так ты же также с «Песенками Севера» сделала.
К.А.: Все меня судят по этой работе, но для меня она, скорее, что-то непохожее на меня. Я-то сужу о своей музыке по там самым 500 демкам, но их никто, кроме меня, не видит. Когда я рассказываю о себе, люди такие: «Чё? Это совсем не похоже на то, что ты делаешь!» Поэтому я всегда всех прошу: вот я умру, вы не забудьте – здесь у меня вот эта папка, здесь вот та, я всё подготовила! У меня странный подход – пускай с этим кто-то другой разбирается. Я вам всё положу в папочки, вы, главное, не потеряйте, ну, и выкладывайте раз в год. Очень тупо.
Т.С.: Кстати, если ты внезапно умрешь, останется ли от тебя что-то, кроме демок – может быть, дневник?
К.А.: Нет, но мне сказали, что это была бы отличная идея. Я всю жизнь собираю смешные истории. Этому меня научил папа – он путешествовал не ради впечатлений, а ради историй. У меня это прямо кино: я выросла в большом достатке во Вьетнаме, работала нелегалом в Швеции, участвовала в круглом столе с Копполой-отцом, давным-давно мне посвящал стихи Джон Маус, а сейчас я дружу по переписке со звукорежиссёром Les Rallizes Dénudés и много чего ещё интересного. Кто ещё о таком расскажет? По отдельности, я думаю, много кто, а вот чтоб всё вместе… Надо обязательно записать хотя бы хайлайтс, самые яркие истории.
Т.С.: Если хочешь, можешь рассказать какую-нибудь историю прямо сейчас, она войдет в интервью.
К.А.: Даже не знаю, сейчас в голову ничего не приходит… Единственно – про Ивана Павлова из CoH, ближайшего соратника Coil. В Фейсбуке был какой-то тред про новую музыку, мол, ничего достойного не появляется, – и он что-то написал про синтезатор АНС. Я не обратила внимания, кто это пишет, и такая: «Ну вообще-то, как человек, который играл на реальном АНС…» Он ответил: «Ну вообще-то, как человек, который тоже играл на реальном АНС…» – и я так: «Ой! Ой-ей! А кто это?» Открыла страничку – и очень расстроилась, ну на кого я лезу? Это ж Иван Павлов. Но он добавил меня в друзья, мы пообщались, он дал мне несколько советов про то, как пережить тяжёлый период в жизни, в творчестве.
Т.С.: Есть ли для тебя полностью закрытые пласты искусства, которые ты не понимаешь, не любишь и, скорее всего, никогда к ним не обратишься?
К.А.: Балет, например. Но при этом – балет же очень разный, модернистский балет довольно интересный. Наверное, искусство барокко, что-то французское и в рюшах, мне не очень интересно. Вижу в этом какое-то сексуальное извращение подавленное. Де Сад, рюши, пирожные, барокко – много в этом какого-то разврата.
За скульптуру я тоже вряд ли возьмусь, потому что это суперсложная вещь. В изобразительное искусство проще влиться – даже не на какой-то высокий уровень, а просто берёшь и рисуешь.
Т.С.: Как у тебя происходил этот культурный отсев? Ты начинала копать в какую-то сторону и разочаровывалась, или что-то одно тебя так сильно увлекало, что ты не обращала внимания ни на что?
К.А.: Я держу нос по ветру и чувствую: в воздухе что-то зреет, туда и смотрю. Я начала копать эту ГУЛАГо-тему ещё до дела Дмитриева, – а теперь все на неё обратили внимание. И это хорошо, я не говорю: «Я интересовалась этим до того, как…» Получается, что я этим насытилась, а люди ещё не успели – и нет бы мне что-то им рассказать полезное, раз у них есть запрос, но я уже в чём-то другом с головой. Всё время немножко в рассинхроне.
Что-то спонтанно может произойти. Помню, меня Пражская весна дико заинтересовала классе в девятом, я всё про это читала, смотрела кино – а потом так резко закончилась и началась какая-то другая тема. Это как-то с личными переживаниями связано.
Сейчас мне стало жутко страшно умирать. Хотя, казалось бы, я видела этого достаточно и в своей жизни. Всё время о ней читаю… Я постоянно думаю: «Каждый день я добровольно умираю – сплю. И каждый день у меня есть маленькая жизнь. Чем я её наполню?» Появилось очень много осознанности на тему: «Что я хочу делать и чего не хочу? Хочу ли я продолжать эту лагерную волну? Сейчас не хочу, хочу позже». Я стала лучше чувствовать свою психику: вот тут надо отдохнуть, тут надо что-то ещё сделать. И каждый день из-за этого кажется удивительным подарком судьбы, я в восторге – это очень странный период. Раньше я могла спать целыми днями, и мне было всё равно.
Т.С.: Это не связано с твоей работой с терапевтом?
К.А.: Не знаю, может быть и связано. Вот в творчестве какие-то глобальные сдвиги произошли – прикольно, что гештальт стал таким триггером для творчества. Ещё бы научиться это как-то реализовывать вне своего компьютера… А то у меня лежат склады гигабайтовые сочинений каких-то переведенных, фотографий разных мест, из которых можно целые альбомы делать…
Т.С.: То есть мы сможем тебя увидеть ещё и как фотографа?
К.А.: Это да, я себя в большей степени фотографом считаю, чем художником, например. Моё любимое дело – фотографировать, я обожаю фотографию на телефон, возвеличиваю её, это очень круто. Мне много раз говорили фотографы: «Ха, да ты не настоящий фотограф», – но мне очень нравится, что каждый с мобильным телефоном может какой-то прекрасный момент зафиксировать – так что же в этом плохого? Люблю все эти паблики, где на старые мобилки фотографируют.
Я себе специально искала телефон с хорошей камерой, мне нравится, что это мой маленький мобильный друг, который всегда со мной. Такая вот ситуативная фотография получается: я что-то вижу, сразу фоткаю, смешная быстрая документалистика. Вообще люблю кадры ловить.
У одного моего хорошего знакомого, Саши Скобеева, был такой забавный старый фотоаппарат, который делал фотографию и записывал десятисекундный звук. Очень интересно получалось: например, фото мирного пейзажа, а на записи его девушка какую-то шутку рассказывает. Или какой-нибудь нелепый звук. Ты вообще это с другим ассоциируешь, видишь какую-то картинку и дорисовываешь всё, что вокруг неё – но тут ты слышишь запись и понимаешь: вообще это не так, скорее всего, было. Вот эта бездна восприятия между тем, как мы понимаем книгу, альбом, фото – и как сам автор это воспринимал, это настолько разные вещи…
Т.С.: Ты уже упоминала эту интересующую тебя тему – психологию музыкального восприятия. Ты её изучаешь с научной точки зрения, читаешь исследования?
К.А.: Да-да. Читаю работы по акустике и музыкальной антропологии. Про это на английском довольно много написано. Мне интересно, как это было у первых людей, как они с эхо работали, докопаться до чего-то.
Вообще, жить – это такой психоделический трип. Ты встаёшь – и каждый день столько информации, столько событий, вокруг тебя небо меняет цвет… этого так много, я иногда в сенсорном перегрузе от того, что всего вокруг так много, и есть, и будет, и всего не объять… Было бы тупо, если бы мир был такой серой штукой.
Т.С.: Делёз приводил пример про клеща: его жизненный мир сужен до тактильных ощущений и чувства тепла.
К.А.: Иногда, когда я задумываюсь о таких существах и надеюсь, что все эти злые НКВД-шники переродились в клещей. И какое-то животное их хлопнуло – и всё, и тогда они превращаются в камень и живут 150 тысяч лет в виде камня… Идея возмездия всю планету всегда очень тревожила: «Ну, не может же быть вот так вот плохо!» Но не знаю… Скорее всего, может.
Т.С.: Возвращаясь к музыкальной теории, – в своё время слышал о том, что до определенного момента вся музыка была нестройной, диссонансной, поскольку выработанных принципов создания музыкальных инструментов не было. Это так?
К.А.: Да, если послушать первую инструментальную музыку Африки в исполнении племён, которые никогда ни под чьё влияние не подпадали – она очень нестройная. Настоящую эфиопскую музыку очень сложно слушать, это какие-то там нестройные крики. Но при этом некоторые племена были очень музыкальными, поскольку они имитировали звуки птиц. Например, племена байака до сих пор кочуют по африканским лесам и имитируют голоса птиц и животных. У них чистейшие, стройные голоса. И вот мы приходим к тому, что гармония – это следование природе. А что такое природа? А где начинается искусственность? Например, вьетнамские инструменты европейскому уху покажутся расстроенными, неладными, у них свои микрохроматические изменения, которые, как жесты в индийском танце, значат что-то своё… Европейский строй был сделан для систематизации, для упрощения игры и сохранения её звучания – и ближе к XIX-XX вв. стали выбирать частоту для некоторых нот, чтобы произведение, которое написали в Северной Европе, в Южной звучало точно так же. У японцев тоже была своя стройная музыкальная традиция, они хранили её из своей любви к порядку – и сохранили, ибо до сих пор на кото всё тот же строй, что несколько веков назад. Но насколько изменилось наше ухо под влиянием окружающей среды – это же тоже вопрос, уже из разряда философских. Мы же не можем услышать, как на самом деле звучали, например, русские былины. Да, мы знаем, что были вот такие звуки, вот такие слова – но вдруг, например, дерево для гуслей было другим? Сама его структура, плотность.
Я, кстати, стараюсь не строить инструменты, гусли у меня всегда расстроены. Мне часто пишут: «Боже, тебе что, тюнер подарить?» Много классических музыкантов жаловались: «Я не могу слушать твою музыку, она расстроенная». А я считаю, что народные инструменты сами пусть свой строй найдут. Гусли настраиваешь, они за пару дней расстраиваются – и потом получившийся строй уже не теряют. Они сами знают, как им надо, этот их строй гармоничен по-своему. У меня гусли мастеровые, я их поначалу пыталась настроить в свой строй, и они каждый раз переводились в один и тот же. Ну, я его и оставила, чего мне с ними спорить.
Т.С.: Такой музыкальный демократизм, борьба за права инструментов.
К.А.: Да-да-да, Либертарная музыкальная партия России.
Т.С.: А как ты относишься к атональной музыке – нойзу, эмбиенту, например?
К.А.: Я на днях думала, что нойз, эмбиент, рэп и шугейз питерский, я бы его так назвала, якобы шугейз, который с настоящим шугейзом ничего общего не имеет…
Т.С.: В смысле, современный?
К.А.: Да-да, настоящий для меня шугейз – это My Bloody Valentine, такой рокешник, чуть ли не хэви-метал, тяжёлый жирный звук. Да, и ещё, может быть, вэйпорвейв – это такие жанры, в которые супер-легко вкатиться. Ты можешь читать рэп, ты можешь делать эмбиент, просто нажимая одну кнопку и слушая звуки, которые пишет компьютер. В этом нет высокомерия – у меня самой очень много музыки, когда я просто нажимала одну кнопку и думала: «Вау, как красиво!» Я могла залипать в это часами, и я понимаю восторг людей от каких-то звуков, пускай они делают, что хотят. А, ещё блэк-метал к этой категории относится…
Т.С.: Ты считаешь, что в него вкатиться легко?
К.А.: Там есть определенные правила, соблюдая которые, ты можешь оказаться очень легко в волне. В блэк-метале есть аккорды или аккордовые последовательности, и даже не умея особо изворотливо играть… Нет, пожалуй, блэк-метал из них самый сложный, нужно владеть инструментом всё-таки. Потом уже идёт этот современный шугейз и всё остальное.
Т.С.: Постпанк ещё, буеракообразное что-то…
К.А.: Да-да, тоже, тоже. Нью-вейв ещё, вот эти кассетные переиздания, новые лейблы. Я в Минске жила, там полно этих ньювейверов, хотя это уже совсем не нью, ха-ха.
У меня стоит такой фильтр: нужно услышать отзыв близкого человека, хорошего музыканта, чтобы я стала это слушать. Так много в этих жанрах посредственного, ненужного… И там совсем нет работы души. Человек такой: «О, сейчас я буду играть постпанк, и девочки будут ходить ко мне в гримерку», – ну, или чтобы влиться в какую-нибудь тусовку. Это не очень интересно. И с эмбиентом – многие просто хотят ощутить, что они делают музыку. Я думаю, что музыку могут делать все, только неизвестно, насколько хорошую, насколько она попадет в струю, насколько она будет интересна для твоего виртуального собеседника.
Мне неинтересно это слушать, учитывая, как много на свете музыки классной и неизведанной… Я всё-таки люблю, когда люди подходили с умом, когда они хотели что-то необычное добавить, или какие-то процессы зафиксировали, и��и как-то интересно свели, или… Я очень люблю группу Ahkmed, такой ��очти краут. Они всё записывали прямо на репах, у них такой сырой звук, но настолько там много жизни… Слышно, что люди умеют играть, и при этом группа, по-моему, одного диска, как очень часто бывает. Один EP – зато вау. Мне, скорей, такое будет интересно, всё-таки люди старались, чтобы это сделать, а не просто нажали на кнопку.
Т.С.: Кстати о блэк-метале. Ты где-то шутила про свои блэк-метал-записи – или они у тебя правда были?
К.А.: Почему, они есть. Я ж всё время ору, верещу, кричу, какие-то страшные штуки делаю, почему бы и нет. Это один из жанров, который я очень люблю и в который я всё планирую ворваться, но меня всё уносит то на гуслях играть, то ещё что-то… Музыку на гуслях я называю «роу-блэк-металом». Настолько «роу», что даже гитары нет.
Т.С.: Ты в одном из интервью упоминала, как в 13 лет собирала скримо-группу. Что из этого вышло?
К.А.: Ничего не вышло. Насчёт скримо… Проще послушать меня на концерте и сказать своё мнение. Я не могу серьёзно сказать, что играю блэк-метал или скримо, я просто ору под гусли, но довольно жутко и мощно порой, и это пугает людей.
Т.С.: Есть ли у тебя ориентиры в вокале и в игре на гитаре?
К.А.: Да, из певиц мне очень нравится Сьюкси, Нико, они для меня золотой стандарт, но у нас совсем разные голоса, мне сложно ориентироваться на тех, у кого совсем другой тембр. Из более-менее близких это Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins. То, как она из своего голоса сделала какую-то великую арфу, блестящий сказочный золотой хрустальный инструмент – это вообще.
Мне нравятся разные традиции пения – например, японская, она вообще не на диафрагме. В консерватории был мастер-класс с женщиной, которая играет на биве, это такая японская гитара XII века, как лютня примерно. И у этой женщины такой голос, что стаканы трясутся в комнате. Она пела в слабенький микрофончик, но её было слышно в огромном консерваторном зале с задних рядов так, что ты: «Господи! Сколько в этой маленькой женщине мощи!» Когда мы её спрашивали: «А вы на диафрагму опираетесь?» – она: «Что это такое?» Они поют животом исключительно.
Когда слушаешь какое-нибудь африканское, марокканское, эфиопское пение – насколько по-разному звучит. Потом, как гуцулы поют – вообще другое. Или там индийцы в своих рагах… Так много разных традиций, и мне очень нравится, что люди в этом ковыряются.
Вчера смотрела передачу про университет гамелана в Калифорнии, они развивают вот эту традицию. И я уже с опаской открыла комменты, думая, что увижу там: «Белые апроприируют нашу культуру!» Но я зашла – а там: «О, круто, спасибо, что храните нашу традицию!»
Это моя больная тема: современные левацкие теории меня бесят. Культурная апроприация меня очень бесит – я много читала текстов по антропологии музыки, вообще по истории музыки, и знаю, что как раз европейцы, самые что ни на есть белые, начинали культуру сохранения музыки. Если бы в 20-е годы они не ездили её записывать, у нас бы вообще ничего не осталось. Теперь мы можем изучать тот же африканский язык барабанов, можем проследить, как он изменился хотя бы за эти сто лет. Какая тут культурная апроприация, если люди очень многое сделали для этой культуры?
Т.С.: Может быть, я не до конца понимаю теорию апроприации, но она ведь скорее про неумное использование, а не про сохранение. Человек, не зная чужую культуру и не интересуясь ей, оперирует её знаками…
К.А.: Например, одевается в костюм гейши на Хэллоуин.
Т.С.: …да, и потом начинаешь продавать курсы: «Как стать гейшей за пять шагов». Вот это апроприация. Но я думаю, что только отбитые люди стали бы обвинять в ней работников культуры, которые её сохраняют.
К.А.: Видимо, я на таких и натыкалась довольно часто, когда смотрела тематические документалки или читала треды на Реддите. Людям не нравится: «Зачем вы лезете в нашу культуру?» Потому что мы её сохраняем вообще-то! Тогда сохраняйте сами, но что-то вы этого не делаете. То, что ты описал – да, это мне совсем не близко, блёв абсолютный, как иммигранты в кокошниках. Меня это, правда, не заденет, себя я считаю человеком никакой культуры, ха-ха.
Т.С.: Никакой?
К.А.: Она настолько смешалась… Превалирующе – русской, но всё-таки я выросла совсем не в России, Азия – мой дом родной.
При этом у меня есть свой триггер насчёт культурной апроприации. Во Вьетнаме я всегда была чужаком, меня часто не принимали вьетнамцы – я для них всегда была «богатая белая», непонятно, что со мной делать, и надо ли делать что-то. И когда я приехала из Вьетнама в Россию, я была чужая, потому что выросла во Вьетнаме и не знаю русских традиций общения. Когда тебя выкидывают из какой-то культуры, говорят, что ты чужак, я на это очень остро реагирую.
Мне не нравятся расистские разговоры о белых, которые реально что-то делают. Это очень нечестно, это меня по-детски злит, потому что я знаю, каково быть белым в небелой среде. При этом для меня они родные люди, когда я вижу вьета, то теплее к нему отношусь, чем к кому бы то ни было. Понимаю, что это очень глупо, что этот человек меня может обмануть через секунду, – но всё равно я расположена к нему. Кстати, забавная штука: через годы после жизни во Вьетнаме ко мне подходили вьетнамцы и разговаривали со мной на вьетнамском. Вот откуда они это понимают? Не знаю.
Т.С.: А ты не владеешь азиатскими языками?
К.А.: Только китайский знаю более-менее. Надо уже ими заняться. Столько планов, столько планов, а занимаюсь чем-то другим.
Т.С.: Даёшь интервью о том, как не занимаешься ими.
К.А.: Да-да, пиздеть – не мешки ворочáть.
Т.С.: Тогда давай про идеологию. Ты говорила, что у тебя был период советолюбия. Сейчас, насколько я понимаю, его и в помине нет. Можешь ли ты себя политически определить – левая, правая, центристка?
К.А.: Не знаю, где либертарианцы находятся на этом спектре…
Т.С.: Ты имеешь в виду: «рыночек порешает»?
К.А.: Да-да.
Т.С.: Это центристская позиция скорее.
К.А.: Мне нравится Михаил Светов, люблю Мишеньку. При этом мне очень понятно, почему люди были повально восхищены коммунизмом – скорее непонятно, как можно сейчас быть им восхищенным, если теория уже доказала, что она не работает, а ты старше 16 лет. Пора немножко иллюзии от реальности отделять. Я солидарна с тем, что мощнейшая культура социализма очень вдохновляющая, будит в человеке не только базовые инстинкты, но и помышления повыше. Многие расстрелянные были истинными партийными коммунистами, хотели делать всё для людей.
Я бы не сказала, что очень политизирована. Мне просто очень нравится идея о том, что есть рынок, есть конкуренция. Сейчас есть Интернет, есть свобода, ты можешь зарабатывать деньги стримами, всё что угодно делать, выходить в денежную сферу, при этом быть самим собой и работать на себя. Такие вещи создают невероятные условия для равенства людей.
При этом, конечно, очень много провисов. Мой друг из «Новой газеты» ездил в Швецию, у них там 20 лет как отменили закон о проституции, она стала полностью легальной. У них по статистике убивают десять женщин в год – а у нас десять тысяч убивают. И тут я думаю: «Блин, пускай уже будет феминизм из всех вообще углов, но десять тысяч против десяти – это безумие. Пускай меня назовут белым апроприатором, пускай будут ненавидеть всех мужчин – но, если это так работает, может быть, это не так уж и плохо?»
Т.С.: Ты имеешь в виду шведскую модель?
К.А.: Нет, в целом феминизм. У них было сделано очень многое для женщин, даже с перегибами некоторыми – не о равенстве, а о превосходстве женщин речь идёт. Но тем не менее…
В целом, мне не нравится третья волна фем-движения, мне не нравится бóльшая часть их идеологии. При этом я какое-то время была феминисткой. Когда я это только для себя открыла, то подумала: «Вау, ого!» Но потом я поняла, что современный феминизм поддерживает худшие вещи в людях – слабость. Не прокачку себя, не силу, а требование для себя каких-то дотаций, особого отношения.
Да, я во многом согласна про привилегии – я себя считаю привилегированной, живу в безопасном месте, по сравнению с Северной Кореей или даже с Вьетнамом, могу много что делать. Меня тут не убивают, не насилуют, хожу с распущенными волосами, поступаю куда хочу и работаю кем хочу. Да, это привилегии, но я не собираюсь от них отказываться. Привилегии – это круто, и человек должен сделать всё что угодно, чтобы их достичь.
Т.С.: А чем это противоречит интерсекциональному феминизму? Не нужно отказываться от привилегий, надо просто понимать ограниченность своего взгляда этими привилегиями и добиваться того, чтобы у людей были такие же возможности, как и у тебя.
К.А.: На бумаге это всё очень красиво. Но когда открываются документы о поступлении в университет, и начинается: «Нам нужно столько-то студентов такой расы, а столько-то – такой», – это бред.
Т.С.: Квотирование?
К.А.: Ну да. Это перегиб. Давайте оценивать учебную сферу вообще не по цвету кожи, не по полу и так далее.
Т.С.: Меритократия, каждому по способностям…
К.А.: Ага.
Т.С.: Насколько я понимаю, твои взгляды не противоречат феминизму в целом. В феминизме есть много точек зрения, например, на ту же проституцию – от легализации до криминализации клиента…
К.А.: Идеи мне многие нравятся, но поддерживать движение мне не хочется. Я не чувствую надобности и интереса поддерживать любое движение, которое сейчас представлено в мире (при этом я не говорю, что я не поддерживаю женщин или фонды помощи им!). Сейчас частенько выходит так, что сами идеи хороши, но их репрезентация в социуме и медиа – ужасны. С феминизмом это произошло потому, что его апостолами стали люди, которые явно находятся в психологической травме, не могут отделить политическое движение от своего внутреннего мира, отчего и получается какая-то каша с говном. И вот эта громкая пена, которую мы видим, самые заметные смывки с движения – это всё ужасно. С этим не хочется себя ассоциировать.
При этом многие из «тихих» феминисток, которых я встречала, занимаются классными делами – поддерживают фонд «Сёстры», например. Я считаю это важным: в целом ведь в России женщины не в самом хорошем положении находятся, это я живу рядом с Москвой и у меня всё более-менее. В Сибири всё совсем по-другому, но даже здесь – поди попробуй подать заявление об изнасиловании, тебя в лучшем случае засмеют. Что не просто непозволительно, но и незаконно.
Однако вся левая идеология построена не на том, чтобы слабому дать руку, а чтобы быть слабым и требовать ещё больше, больше, больше. Это какое-то воспевание убогости. А прикол в том, чтобы дать руку, помочь подняться и сделать равным. Многое, на что я натыкалась, это какие-то претензии, предъявы, нелепые или неуместные. Но что-то хорошее есть, я не буду это отрицать. Мне интересно, что люди делают, но в основном, на бытовом уровне, делают они болтовню.
Т.С.: По поводу личных историй я бы хотел добавить. Мне кажется, сила феминизма в том, что он базируется на эмпатии и сопереживании, он во многом про личные истории проблем, насилия человека над человеком. Как и любое движение за освобождение, за защиту прав, феминизм немыслим без, грубо говоря, жалоб, без того, чтобы человек рассказывал: «Смотрите, со мной или с моими близкими случилось что-то плохое, давайте не будем это замалчивать».
К.А.: С этим я наоборот согласна. Но после того, как я почитала дела репрессированных, мне не жалко московских художниц, которые требуют, чтобы в картинных галереях было одинаковое количество мужских и женских картин.
Т.С.: А, кажется, понял. Давай я перескажу, а ты меня поправишь. Ты говоришь о крупных и мелких задачах – одни люди погибают от голода, а другие хотят, чтобы автобус приходил по расписанию, правильно понимаю?
К.А.: Да-да.
Т.С.: Если сравнивать чисто по объёмам проблем – да, ты права, но в фем-дискурсе принцип: голос должен быть у всех – и у тех, которые на остановке автобусной, и у тех, кому есть нечего. Чтобы не было ситуации: «Твоя проблема не важна, заткнись, давай помогать только голодающим».
К.А.: Я тоже согласна, но мне близок подход, когда мы сначала разбираемся с самой крупной проблемой. У нас проблема: женщин убивают, или их насильно выдают замуж в некоторых регионах. Её нужно выносить на повестку постоянно. Как с делом Дмитриева: как только ослабляется интерес масс, его – раз, и снова сажают. Многие люди даже не знают, что он снова сидит. Все знают, что его освободили…
Т.С.: …все отпраздновали и не хотят во второй раз вовлекаться в это.
К.А.: Да, ибо есть проблемы, которые требуют систематического, а не спорадического подхода, внезапного, спонтанного. И одним «хорошим отношением ко всем тварям Божиим» их не изменить, нужен более глобальный подход.
Не знаю даже, чем подытожить. Если я скажу, что мне совсем не нравится феминизм, это бесчеловечно как-то, потому что они часто за хорошие штуки выступают. При этом выбирать феминизм – значит осознанно сужать борьбу за права человека только до этой повестки, что я отказываюсь делать. Но отдельно хочу подчеркнуть, что очень люблю женщин и женские сообщества, сестринство и понимание друг друга даёт мне мощнейший буст. Это не связано с идеологией, это про людей.
Т.С.: Хочу с этой темы переключиться на повестку дня – на гиг, который Ваня организует.
К.А.: Я очень радуюсь, потому что Ваня – мой большущий друг. Помню, когда Ваня репостнул в «Лукошко» альбом Алёны Кривиллы, кто-то написал: «Почему у вас такое кумовство? Вы всё время постите своих знакомых музыкантов». И Ваня ответил: «Да, мы никогда этого не скрывали, мы дружим с лучшими». Всегда это была добрая, душевная тусовка.
Т.С.: Нравятся ли тебе исполнительницы, с которыми ты будешь делить сцену? И ещё – если бы у тебя была возможность собрать музыкальный фест для женщин, кого бы ты позвала?
К.А.: Тут начинается провис: я вообще никого не слушаю из современников. Я знакома с этими женщинами шапочно, через «Ленина Пакет», но лично мы не виделись ни с кем из них, и музыку я их тоже не слушала, да и они мою, наверное, тоже. Мы существуем в планетарной системе, где центр, Солнце – «Ленина Пакет», а все вокруг тусуются. Все знают друг друга, но не знакомы с творчеством. Это не из какого-то пренебрежения. Тут происходит такая неприкольная вещь: когда у тебя есть кто-то знакомый, близкий, рядом, который записывает музыку, ты очень часто этого не ценишь, откладываешь. Поэтому я даже не буду ничего слушать до концерта и хочу послушать их уже там. Часто концерт бывает намного интереснее записи, и мне нравится, когда первое впечатление – концертное.
0 notes
Text
Интервью с Лизой ЦО
Организуемый нами однодневный фестиваль женского вокала СИРИН В ЛУКОШКЕ пройдёт 16 февраля 2020 года в МСК. В рамках информационной кампании мы попросили Александра Романовского взять интервью у Лизы ЦО, участницы фестиваля.
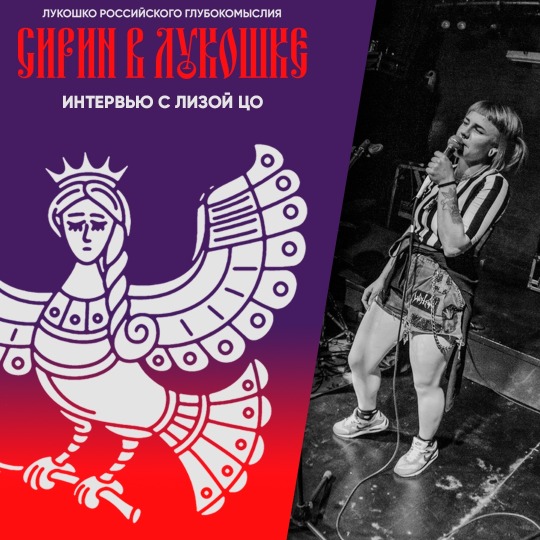
Александр Романовский: Итак, скажи, с чего всё начиналось? Сколько лет уже длится твой бесконечный роман на фронтах мировой независимой сцены?
Лиза ЦО: Смотря что начиналось. Я даже не уверена, что что-то началось вообще. Начинает начинаться, разве что. В юности я, как и многие, играла и пела в разных группах. Какое-нибудь эмо, блэк-метал… Правда, я ничего никогда не записывала. Наверное, в силу отсутствия какой-то культурной ценности. Потом в 2016 году на волне популярности рэпа мы с соседями стали рэповать в угар, писать диссы друг на друга и всё такое. Постепенно мысли о культурной ценности как-то отошли на второй план, вспомнилось про антимузыку. Даже выкладывала пару смешных треков под ником MARKINA.
А.Р.: Что стало с проектом (ненавижу это слово) ЭКАРЛЕТТ и почему появилось Ц.О.? В чём принципиальное отличие?
Л.Ц.: ЭКАРЛЕТТ – это была временная вывеска, потому что я не могла придумать название. Откуда появилось это тупое слово, говорить не буду – давайте просто забудем, что оно было!
Ц.О. появилось из аббревиатуры Лиза и Ц.О., ЛИЦО, которое, в свою очередь, отчасти является данью уважения любимому рэперу фейсу. Там вообще всё сложно и запутано. Хорошо, что меня зовут Лиза и я могу просто так называться… А то я себя почему-то хорошими словами назвать не смогла.
А.Р.: Чем ты занимаешься по жизни? Есть ли у тебя музыкальное или какое-то другое образование?
Л.Ц.: Занимаюсь очень многим. Стараюсь всё уметь. Рука у меня лёгкая, и всё даётся, всё, за что ни возьмусь. В принципе, хочется удивлять и помогать. В музыке, думаю, себя тоже найду однажды, вот увидите!
Музыкальное образование у меня, как у всех приличных девочек, – 8 классов фортепиано. И всё, к сожалению. Я просто одновременно с музыкой играла главные роли в театре и солировала в балете. Каталась по Европе на гастроли. Это всё дало хорошую базу… Правда, девочки с балета научили меня бухать. С тех пор всё пошло наперекосяк.
А.Р.: Балет как-то оказал на тебя влияние, кроме умения бухать? Ты достаточно экспрессивно и активно ведёшь себя на сцене, и многие чуваки могли бы тебе позавидовать…
Л.Ц.: Да! Балет до сих пор оказывает влияние – у меня постоянно болят кости, страдаю остеохондрозом, опять же, перекачанные конечности.
Большую часть времени, когда я в порядке, я ощущаю себя в пространстве как-то особенно, двигаюсь как-то изящнее, что ли. Это ощущение навсегда. Сейчас эта база помогает мне заниматься моим любимым воггингом (погуглите, если интересно, что это (Vogue dance, см. на ЮТУБЕ. – Прим. ред.)) и ещё перелазить заборы, чтобы кататься на электричках или убегать от полиции и охраны. Я же всё-таки панк.
Насчёт экспрессивности – это театр скорее повлиял. Вообще я театр всегда больше любила, чем всё остальное. Правда, меня в какой-то момент попросили оттуда за «предательство». Однажды я увлеклась подготовкой к международному конкурсу танцев в Германии и сама не заметила, что день поездки совпадает с премьерой спектакля, где я, вдобавок ко всему, играла главную роль. В общем, захожу я в наш ДК, на улице уже чемоданы грузят в автобус, а в актовом зале вовсю идёт мой спектакль… И там все по очереди, кто не участвовал в сцене, переодеваются в мой костюм и играют мою роль. Выглядело это достаточно жалко и было очень заметно. РОЛЬ-ТО БЫЛА ГЛАВНАЯ! Больно было смотреть и стыдно. Режиссёр потом сказала: «Лиза, я тебе всё могу простить, но предательство – никогда!» Так было покончено с театром, я поехала в Германию и взъебала там европейцев балетными соло, танцуя сразу в трёх группах. Серьёзно, я победила! Кстати, мне тогда было лет тринадцать от силы.
А.Р.: Расскажи про свою историю с миграцией. Насколько я понимаю, ты приехала из Украины. Если в этом нет никакой тайны, то расскажи, что послужило причиной? Почему выбор был сделан именно в эту сторону?
Л.Ц.: С миграцией было много безумных историй. Думаю даже начать писать мемуары. Изначально в 2013 году я должна была с кучкой ТОРЧЕХИППИ поехать из Киева автостопом в Крым или в Карпаты, не помню уже точно. В общем, собралась, поехала рано утром на трассу, где должны были встретиться с чуваками. Приезжаю, а там никого. Звоню им, а они забили и не поехали. Ну, я вся такая расстроенная прихожу домой к матери, а она говорит, мол, не разбирай рюкзак! Сейчас куплю нам билеты куда-нибудь. И купила билеты в Санкт-Петербург сию секунду. Я там до этого никогда не была. Правда, долго с ней бродить я не смогла, всё-таки разница поколений сказывается, при всём моём уважении. В итоге в одном из винтажных секонд-хендов я встретила ребят, познакомилась, и, признаюсь, оставила мать продолжать променад без меня. Ну и понеслось – меня привели куда надо. Арт-коммуналки, различные вещи, музыканты и так далее… Я вернулась к матери через сутки и сказала, что хочу остаться там жить. Хотя я ещё никого там не знала и жить мне было негде… В общем, дальше меня постигли удивительные приключения, но это, как говорится, уже совсем другая история. Так что никакого выбора не было, всё спонтанно получилось.
А.Р.: Давай вернёмся к музыке. Ты достаточно новый участник современной СЦЕНЫ, тем не менее, уже успела принять участие в ряде достаточно знаковых и интересных коллабораций. Как получилось, что ты начала выступать и участвовать в такого рода солянках?
Л.Ц.: Разве в знаковых и интересных я принимала участие? Я вот не думаю, что это так, и всё ещё впереди. Говорю же, я пока не нашла себя, определённо. Всё ещё экспериментирую. Причём достаточно вяло.
Мне посчастливилось быть знакомой с весомыми персонажами андеграунд-культуры, и я, честно говоря, не совсем понимаю, ЧТО ОНИ ВО МНЕ НАШЛИ. Ну, я догадываюсь, конечно, что некий потенциал есть, но я пока явно делаю не то, что должна, и не то, что могу. В принципе, такие коллаборации неплохо развивают и дают опыт. Этот опыт, думаю, поможет мне в будущем сделать что-то весомое. А в остальном что, вы сами не знаете? Спасибо И.С. и Л.К.!
А.Р.: В исконно русской гендерно-стереотипной традиции было отделять женский рок (назовём это так) от неженского. Как ты считаешь, осмысленно ли сегодня это деление? Лично мне всегда казалось, что женщина в панк-роке – это всегда привлекательно, в разы интереснее очередного мудаковатого парня. Есть какие-то мысли по этому поводу? Есть ли у тебя эталон женщины (панк-женщины) на российской сцене?
Л.Ц.: А почему так патриотично-то? Почему именно русские и именно панк? Я же вроде рэп читаю по большей части. Мне сложно отвечать на этот вопрос – боюсь кого-нибудь оскорбить. Женщин, бесспорно, меньше на сцене, и уже это, как минимум, вызывает деление. Скорее всего, эта редкость и вызывает НЕКИЙ ТРЕПЕТ ПЕРЕД ЖЕНСКИМ ГОЛОСКОМ И ПЕРФОРМАНСОМ. Это, кстати, немного грустно. Вот бы было, ну если не столько же, то хоть чуть больше КАЧЕСТВЕННЫХ исполнительниц!
Эталоны мои не русские нифига. Просто так сложилось, что никого выдающегося из русского женского панка назвать я не могу. Нормальные есть, факт. Нормальные, но не пиджей и не хаген совсем. Кстати, с этим точно нужно что-то делать!
А.Р.: Отлично, спасибо. Ну и напоследок накинь пять-семь треков русскоязычных артистов, которые если не повлияли, то по крайней мере дико нравятся тебе сегодняшней.
Л.Ц.: Вот (Плейлистом можно по ссылке. – Прим. ред.):
Kunteynir – В Аквапарке
KOLOVRAT – Для белой и гордой
ЛЁША ЗАКОН – Я все пропью
Король и Шут – Домой, в Париж…
Шарлот – Зимняя метель
Векша – Царство Снега
Пророк Санбой – Ты выпила водку
И ещё, пользуясь случаем, скажу, что постоянно разыскиваю музыкантов! Если вы хотите посотрудничать, пишите мне!
2 notes
·
View notes
Text
Интервью с Иваном Смехом о фестивале «СИРИН В ЛУКОШКЕ»
Организуемый нами фестиваль СИРИН В ЛУКОШКЕ пройдёт 16 февраля 2020 года в МСК. В рамках информационной кампании мы попросили Сергея Базарова взять интервью у Ивана Смеха, нашего главреда и организатора фестиваля.

Сергей Базаров: Иван, расскажите для начала, почему вы решили взяться за организацию подобного мероприятия вообще? Это же ваш дебют как организатора? Раньше вы ничем подобным не занимались?
Иван Смех: Да, это и правда дебют. Мой характер таков, что мне достаточно затруднительно много общаться с людьми и много проводить различные коммуникации, так что сам по себе вид организаторской деятельности – это не моё. Кому-то это заходит значительно проще. Я, конечно, принимал участие в организаторстве и ранее, на концертах ЛЕНИНА ПАКЕТА или рядом, как человек задействованный, – приходилось следить, общаться с заведением, звукооператорами, находить контакты или подбирать кого-то в состав мероприятия. В общем, узнав изнанку и получив этот опыт, я понял, что это не является чем-то невероятным и непонятным, но вкладывать лично тяжёлый труд в организацию гига товарищеских групп, которые и так частенько выступают, я смысла не видел. Неоптимальное расходование собственных сил. И сейчас впервые сложилась ситуация, когда я осознал, что смогу совершить важное культурное высказывание как ОРГАНИЗАТОР, а так как моими наблюдениями, кроме меня, поделиться, очевидно, некому, взялся за дело сам. Впрочем, предварительно заручившись поддержкой Александра Романовского, который уже имеет богатый опыт в таких вопросах.
С.Б.: А подробнее о ситуации? Что именно сложилось?
И.С.: Даже не знаю, с чего начать! Сама тема ЖЕНСКОГО ВОКАЛА меня интересовала давно, первым публичным высказыванием на эту тему, кажется, стала моя статья ДЕСЯТЬ ХОРОШИХ ГРУПП С ЖЕНСКИМ ВОКАЛОМ 2015 года, где, кстати сказать, уже упоминалась Алёна Кривилла. За прошедшие после статьи годы накопился опыт сотрудничества и с Алёной, и с другими исполнительницами. И вот, начиная с какого-то момента, события стали выстраиваться в некий единый вектор, подталкивая меня к настоящему ФЕСТИВАЛЮ. Поначалу ещё можно было этого не замечать, но потом исчезла всякая возможность. Вот смотрите.
Сначала в Москву из Петербурга переехала Алёна и творчески активизировалась после некоторого перерыва. Тогда мы с ней совместно выступили пару раз, она выпустила два альбома, в 2018 и 2019 годах. Потом вернулась на радары Наташа Ильминская, она к тому моменту уже участвовала в записи альбома НОВАТОРОВ АВАНГАРДА 2015, который так и не был доведён до конца, сейчас вот доделываем из него треки. Недавно опубликованные ТУШИНО и ЯСЕНЕВО остались с тех сессий. Затем опять же в МСК переехала Тая Звёздочка. Она участвовала ещё на моём первом реп-альбоме 2012 года сольном, много пела с Ваней Айваном, но потом её творческая деятельность практически остановилась – и тут удалось её вытянуть немного попеть с нами, когда я выступал с Зерном. На том же концерте в качестве зрителей заглянул с товарищами Алексей Танкист из ГОРЯЩЕГО СИДНЕЯ, великолепной старой группы, которую я уже устал везде нахваливать. Там мы познакомились вживую, и он сказал, что они занимаются РЕЮНИОНОМ на постоянной основе – один трек к тому моменту уже вышел на трибьюте Лимонову, но я думал, что это была разовая акция. Ну и затем мы познакомились с Лизой и собрали новый ансамбль, в котором я выступаю в качестве бек-вокалиста. На фоне всех этих событий я и понял, что ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО. К выступающим добавилась Ксения Ат, с которой мы уже много лет дружим, но посотрудничать так и не собрались до сих пор, несмотря на попытки, – а у ГОРЯЩЕГО СИДНЕЯ и Таи Звёздочки организоваться для концерта в итоге по различным причинам, к сожалению, не получилось.
С.Б.: Спасибо, с этим понятно, но история выглядит как-то слишком лично. А как будет звучать обоснование фестиваля, если абстрагироваться от этого взгляда?
И.С.: Как-то вроде «Репрезентация некоторой сцены, независимой от текущей независимой сцены». Если говорить в общем, минуя оговорки и уточнения, то никто из представленных групп толком не репрезентован в культуре, мало выступают (у НОЗ НАД ЛЕСАМ это вообще дебютный концерт), не могут похвастаться вниманием прессы/критиков и наличием интервью, и этот уровень репрезентации вопиюще не соответствует их творчеству: оно интересно и достойно куда большего внимания. Релизы как-то доходили до слушателей, но не всегда воспринимались должным образом из-за потоков информационного шума. Я решил попытаться снабдить их творчество некоторым контекстом, чтобы попробовать поспособствовать его более тщательному рассмотрению. Собрав группы на одной сцене, я задумал, во-первых, задать новый угол зрения на них, а во-вторых, рассчитываю, что они взаимно усилят друг друга и воспримутся даже не как цельная сцена, но скорее как факт некоторой тенденции… Извиняюсь за мутные формулировки, но просто тут хочется подчеркнуть, что реальные взаимоотношения между исполнительницами разные, и они сами скорее не считают себя частью какого-то одного движения или сцены, и не факт, что ещё хоть раз выступят вместе, а на СИРИНЕ согласились выступить скорее из-за доброго отношения ко мне, нежели из чувства взаимного единения. То есть я с позиций исследователя культуры подметил ТЕНДЕНЦИЮ, что вот такие интересные неочевидные и не фигурирующие в составе уже сложившейся системы сообществ или мероприятий группы возникают, и призываю людей внимательно присмотреться к ним с помощью фестиваля. Мне это кажется по-настоящему важным! И результат для зрителя может быть вполне удивительным – особенно на фоне жалоб на некий ЗАСТОЙ В КУЛЬТУРЕ.
С.Б.: А что-то ещё объединяет выступающих? Ну, помимо сотрудничества или знакомства с вами.
И.С.: Вообще говоря, факт сотрудничества или знакомства со мной я бы расценивал не как ЛИЧНЫЙ ФАКТ, но как КУЛЬТУРНЫЙ. Ведь это говорит что-то и об их эстетических взглядах и вкусах, которые не могут не отражаться в творчестве. Шучу, скорее, вы правы, наш глобальный условный формейшен, как ни крути, а не лишён серьёзной круговой поруки! Но ведь выступать на СИРИН я позвал далеко не всех, кто подошёл бы под общую тематику фестиваля и знаком со мной. Критерии отбора были более строгими – ключевым всё-таки уже указанная «нерепрезентованность на фоне ценности творчества». Думаю, можно найти и ещё какие-то художественные рифмовки, но для этого потребуется более глубокий анализ творчества. Я сам пока не формулировал ответа на этот вопрос. Но вот «нерепрезентованность» я бы всё-таки оценивал как часть художественной стратегии, сознательной или вынужденной, и это как раз действительно важно.
С.Б.: Откуда пошло название СИРИН? Ведь не в честь писателя Набокова же.
И.С.: А, это я как всегда, не смог обойтись без инсайдерских отсылок. В девяностые Ник Рок-н-ролл проводил фестивали женского вокала с названием СИРИН, однако особой строгости при отборе участниц там не наблюдалось, так что выступали группы типа ЧИЧЕРИНОЙ и НОЧНЫХ СНАЙПЕРОВ (хотя тогда они ещё не прославились и могли восприниматься получше). В общем, отсылая к этому фестивалю, я решил показать, КАК БЫЛО НАДО ОТБИРАТЬ РЕПЕРТУАР. Но слово ФЕСТИВАЛЬ, сама идея, что это не просто концерт, – пошло оттуда же. А название СИРИН кажется логичным само по себе, тем более в рамках ЛУКОШКА, эдакое народное всё. Мы – народная культура, хотя со стороны можем казаться несколько маргиналами. Не наша вина, что народная культура оказалась маргинализирована отечественной версией капитализма.
С.Б.: А какой-то подготовительный материал стоит послушать перед концертом, чтобы заранее подготовиться? Релизы какие-то? И вообще, расскажете поподробнее о выступающих?
И.С.: Да, релизы есть. У Алёны Кривиллы три альбома, ещё сколько-то прекрасного анрелиза, несколько песен в составе НОВАТОРОВ АВАНГАРДА на КОЛЬТ ПРОПЕЛ О СМЕРТИ и некоторое приглашённое участие с ЛЕНИНА ПАКЕТОМ и Боровиком Ералашем. У Ксении Ат наиболее известный альбом ПЕСЕНКИ СЕВЕРА, но ещё множество-множество всего. У Наташи Ильминской два релиза в рамках НОЗ НАД ЛЕСАМ и ещё немного всего, она не очень плодовита. Всё основное повыкладываем ещё раз к гигу для удобства! А рассказывать про участниц не буду, они сами расскажут, в рамках ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ выйдет интервью с каждой, вот там и узнаете. Ещё хотел бы потом собрать их в зин, либо к гигу, либо, если не успеется, опосля. В общем, настоящее интервью – это только начало публичной активности. А, ну да, у Лизы ЦО альбомов пока нет, но её вокал на один уже записан, теперь ждём мои беки. Надеюсь, всё доделается к СИРИНУ и будет тоже, надо собраться.
С.Б.: В списке ещё фигурирует группа НОВАТОРЫ АВАНГАРДА. Это же ваш проект, и на вокале там, в основном, вы. На СИРИНЕ будет иначе?
И.С.: Да, там же подписано СПЕЦПРОГРАММА. На вокале будет Лиза ЦО, соберём редких песен из репертуара, и она исполнит. С одной стороны, такая задумка весьма заманчива и уже возникла сама по себе, но, с другой, в рамках активной подготовки к фестивалю заниматься этим было бы лень. Вынужденная мера! Из-за позиционирования события как ФЕСТИВАЛЬ решил добавить для весомости. Ведь изначально планировались семь групп, когда осталось четыре – показалось маловато, и возникла необходимость презентовать что-то ещё. Ну, вот и пригодилась сподручная идея. Должно выйти редко и интересно.
С.Б.: А почему семь групп? До этого вы упоминали только о двух отказавшихся. И вообще, СИРИН был анонсирован ещё в прошлом году, но потом сроки перенеслись. К моменту объявления уже что-то должно было быть подготовлено. При этом вы сказали, что брать на себя функции организатора вам «тяжеловато». В процессе реализации начальной стадии проекта ваше мнение об организаторской работе не изменилось? Наверное, можно подвести какой-то промежуточный итог.
И.С.: Спасибо за вопрос, однозначно, я укрепился во мнении, что плохо подхожу для такой деятельности. Для более подробного ответа придётся уйти опять в личные детали, вероятно, малоинтересные людям со стороны, но уж проговорю. Сама идея фестиваля возникла у меня чуть ли не в конце весны. Или в начале лета. Получив потенциальное согласие от всех, кого хотелось видеть на сцене, я стал планировать всё на сентябрь. Но когда начал договариваться с выбранным клубом, то оказалось, что время забито далеко-далеко вперёд, и ближайшая свободная дата – в декабре. Другой подходящей площадки в голову не приходило, я не так часто куда-то хожу и хотелось провести всё в знакомом и освоенном месте. Но к тому, что время надо будет забивать настолько заранее, я подготовлен не был. Касательно семи групп: по ходу концепция события несколько видоизменялась. Изначально всё планировалось привязать не к ЛУКОШКУ, а к ЛЕНИНА ПАКЕТУ, и в составе была задумана ещё Маша Позер, сотрудничавшая и с ЛЕНИНА ПАКЕТОМ, и с Виталием Double V, а для подкрепления выступления Таи Звёздочки рассматривался вариант исполнения её совместных с Айваном композиций. Но Маша Позер вообще была не очень довольна предыдущей своей концертной деятельностью, и предварительное прощупывание почвы показало, что рассчитывать на её участие не стоит. А из некоторого общения с коллегами по ЛЕНИНА ПАКЕТУ я сделал вывод, что свою идею логичнее реализовывать мне одному, не привязываясь к ансамблю – так что в качестве культурного фундамента вместо ПАКЕТА было выбрано ЛУКОШКО. В конечном счёте, удачное решение, верно расширяющее культурный горизонт.
Забивши столь нескорую дату, я ушёл с головой в работу над книгой СЛЕДЫ НА СНЕГУ, и, хотя она была завершена довольно задолго до даты проведения фестиваля, – по сути я оказался не готов к нему, так как был полностью выжат, а после выхода книги необходимо было ещё подготовить пачку сопроводительных к ней материалов. Тогда я нашёл силы организовать рисование афиш – их сделал cfnslr, с которым мы хорошо сработались, когда он ещё не был cfnslr, – и опубликовать первый анонс, но вот изготовить все интервью и провести должную репрезентацию уже, наверное, не потянул бы. Поэтому, когда обрушилось, что выбранный клуб временно закрылся, я оказался не в силах найти новое место под ту же дату и даже с чувством некоторого облегчения перенёс фестиваль на следующий год.
Но между изначально планируемым сентябрём и итоговым февралём прошло полгода – за это время ситуация менялась достаточно стремительно, так что идея начала давать едва заметные трещинки. Были и какие-то нюансы, касающиеся взаимоотношений задействованных людей, сменившихся на противоположные… Да и дёргать всех участниц с перенесением каждый раз мне было достаточно НЕЛОВКО, т.к. под каждую дату людям нужно подстраивать свои планы. Последним изменением оказалось место проведение – в изначально запланированном провести так и не вышло, но за это тянущееся время я с НОВАТОРАМИ АВАНГАРДА опробовал сцену УСПЕХА, и из знакомых вариантов она оказалась вполне подходящей – благо, задуманная дата 16 февраля там была свободна, и они охотно пошли мне навстречу. Как и все группы финального состава, за что им спасибо, – все изменения сносились ими с неизменным терпением и стойкостью.
Но если подводить итог к текущему моменту, то для меня самого весь этот процесс однозначно проходил не очень легко. Думаю, после доведения всего задуманного до конца у всех наступит ОБЛЕГЧЕНИЕ! И этот период переносов и неразберихи в памяти сотрётся. Но для себя я утвердился в мысли, что в ситуациях, где задействовано много людей, есть конкретные сроки и т.д. – я действую не слишком прытко, в итоге остаюсь не особо доволен собой, и мне значительно проще, когда результат моей творческой деятельности зависит в первую очередь от меня, а другие люди от меня не зависят и не должны подстраиваться. Как поётся в песне, ПРИДУМАННЫМ МИРОМ УДОБНЕЙ УПРАВЛЯТЬ, а реальный устроен сложнее. Так что зарекаться не буду, но и не расстроюсь, если мой организаторский дебют окажется и последним организованным мною событием. Ну а эта идея явно стоит вложенных в неё усилий.
1 note
·
View note
Text
Интервью с издателем ГИЛЕИ Сергеем Кудрявцевым о свежевышедшей книге братьев Гординых АНАРХИЯ В МЕЧТЕ
Меньше месяца назад в издательстве ГИЛЕЯ вышла книга братьев Гординых АНАРХИЯ В МЕЧТЕ, содержащая их художественные и теоретические тексты, написанные вскоре после революции, ряд их публикаций с более широким временным охватом, а также обильную биографическую справку об этих неожиданных анархотеоретиках и анархопрактиках. Главред ЛУКОШКА Иван Смех побеседовал с издателем Сергеем Кудрявцевым об этой книге, её связи с другими книгами ГИЛЕИ, да ещё о всяком разном – вплоть до социомагии, явных пороков академиков и дома на говне.
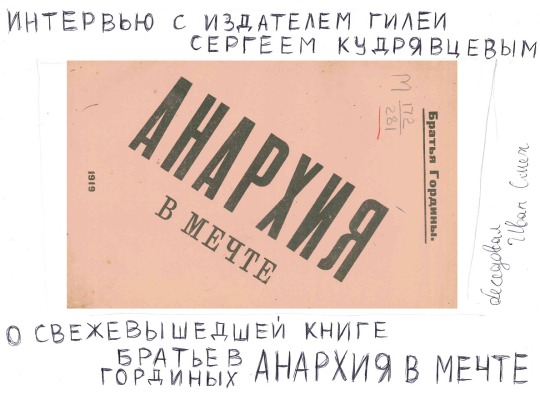
Иван Смех: Сергей, первые двадцать пять книг серии РЕАЛ ГИЛЕЯ были написаны в первую очередь деятелями искусства – поэтами, писателями, художниками. И вот оказывается, что двадцать шестая написана братьями Гордиными, анархистами, т. е. в первую очередь политическими деятелями/мыслителями. Такое соседство встречалось и ранее в рамках издательства, но оно всегда разделялось по сериям. Почему теперь этот привычный подход изменился? И почему именно РЕАЛ ГИЛЕЮ постигло это изменение? В целом сложилось впечатление, что вы крайне внимательно следите за подобными вещами при продумывании изданий, так что вопрос кажется осмысленным.
Сергей Кудрявцев: Иван, на самом деле подход к этой серии совсем не изменился, но я бы сказал, что он некоторым образом развивается за счёт специальных акцентов. Тебя же не очень удивляет, что в книжной программе «Гилеи» в целом соседствуют авангардные авторы, левые и анархистские мыслители или, скажем, Джорджо Агамбен, не являющийся ни первым, ни вторым, ни третьим (хотя у него недавно в Италии вышла работа об анархии). Для меня это не несколько разнородных «потоков» идей, а по большей части очень перекликающиеся тексты. Удачной иллюстрацией этого мне кажется появившаяся весной в «Гилее» книга Грейла Маркуса, где автор нашёл множество связующих нитей между дада, панком, ситуационистами и некоторыми религиозными сектами. Или вышедшая год назад антология воззваний и трактатов сюрреалистов, из которой видно, что сюрреализм – в меньшей мере течение художественное, а в большей – политическое и интеллектуальное, довольно близкое к анархизму. Авангард в литературе и искусстве – это ведь прежде всего «протестное» течение, которое не только посягнуло на основы языка или живописных канонов и расширило границы допустимого в искусстве, но и пыталось вторгаться в социальную жизнь, приветствовало революционные перемены, вырабатывало свои рецепты переустройства мира, было против отношений власти отнюдь не только в культуре. Скажем, Дебор, до сих пор мало интересующий тех, кто увлекается футуризмом или дада, – безусловно авангардный автор, настоящий поэт, своего рода дадаист, но совсем не традиционный политик или революционер. Так же и с Гордиными. Эта книга, «Анархия в мечте», вышла в «авангардной» серии, где до того были Кручёных, Ильязд, Йоханнес Баадер, Пикабиа, Краван, тот же Дебор и многие другие. Анархисты Гордины не только связаны с российским авангардным движением фактически и исторически, но они во многом близки как к нему, так и к некоторым западным течениям идейно. Да, в этой серии я, если можно так выразиться, поставил Гордиными свой акцент, показывая родство авангарда и их радикального и очень поэтичного анархизма.
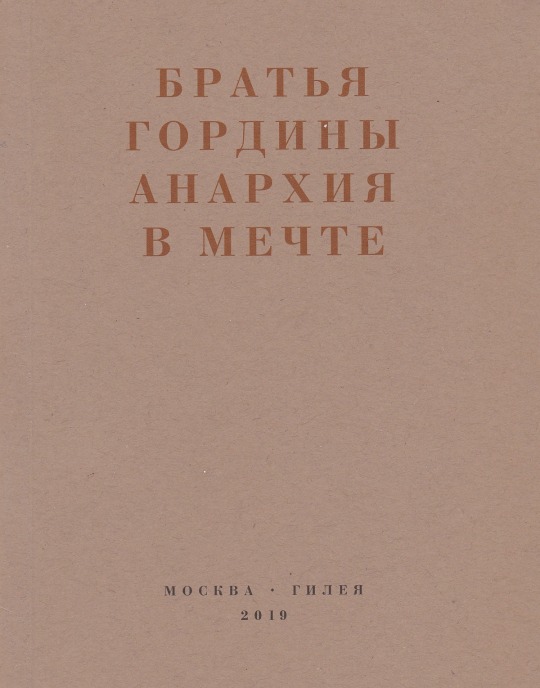
Братья Гордины, АНАРХИЯ В МЕЧТЕ, Гилея, 2019 (обложка книги)
И.С.: А как вы изначально вышли на братьев Гординых, откуда о них узнали? Ведь если одна из целей такого издания – это подчёркивание родства, то ранее оно было неочевидно; сами фигуры Гординых достаточно неизвестны, а отечественные политические движения пореволюционной поры напрямую до этого ГИЛЕЯ не освещала.
С.К.: Всё очень просто: в какой-то момент я стал без особой цели листать сканы подшивки московской газеты «Анархия» 1917–1918 годов, сохранившиеся от одного старого проекта, и обнаружил печатавшуюся там с продолжением повесть «Пять дней в стране анархии», подписанную, как правило, псевдонимом Н. Гордый и лишь в паре случаев – другим, ежедневно появлявшимся на первой полосе: Бр. Гордин. Раньше я не обращал на эту вещь никакого внимания, а больше заглядывал в раздел «Творчество», где активно печатались авангардные художники. Эта утопия меня очень заинтересовала, и прежде всего своим созвучием художественным утопиям футуристов и супрематистов, фантастическим грёзам романтиков авангарда. Тогда я стал разыскивать любые материалы, связанные с нею и с её автором Аббой Гординым, который был редактором и издателем «Анархии» – и именно он, скорее всего, пригласил к сотрудничеству в газете Малевича, Клюна, Розанову, Родченко, Моргунова, Гана и других. Начал собирать материалы об обоих братьях: Вольф примерно в то же время издавал в Петрограде анархистский «Буревестник» и печатал не менее интересные материалы, а потом придумал Всеизобретальню и новый язык. Я сделал копии гординских книг, хранящихся в РГБ, в том числе «Анархии в мечте: Страны Анархии», которая вышла в Москве в 1919 году и была той самой повестью (или «утопией-поэмой», как назвал её сам автор) о путешествии в невероятную страну, лишь несколько переработанной. Одновременно с этим в паблике «Вольные архивы» обнаружил выложенные туда энтузиастом полные подшивки разных анархистских изданий: того же «Буревестника», где, например, опубликован совсем футуристический «Младочеловек», датированный 1909 годом (чем не конкуренция итальянским футуристам!), или журнала Аббы Гордина «Через социализм к анархо-универсализму», где можно встретить его необычные и часто довольно безумные стихи, и так далее. Потом повезло увидеть ранние гординские книги на иврите и на идише. Уже в них, изданных самими братьями в 1910-е годы в Вильно, возникают замечательные прозрения, например, о космическом языке или о триумфе человека над социальными условностями, командами и регламентами или, точнее, над тем, что философы позднее назовут диспозитивами и аппаратами власти. Поиски в сети позволили разузнать и о статьях Леонида Геллера, специалиста по литературной утопии, написавшего о связях гординского анархизма и русского авангарда ещё в начале нулевых. Он подготовил для гилейского издания большое и очень содержательное исследование, которым я дополнил тексты братьев. Он же помог обнаружить более поздние публикации Вольфа и Аббы – тех времён, когда оба уже жили в США, – и даже нашёл материалы третьего, самого младшего брата, Мориса. Извини, наверное, я слишком подробно отвечаю на твой вопрос.
И.С.: Напротив, чем подробнее, тем лучше! А каковы же тогда корни поэзии Гординых, если они на��али, по сути, писать нечто футуристическое раньше русских футуристов? Казалось, что Гордины просто испытали влияние (в первую очередь, Хлебникова), но выходит, что это не совсем точно! И какая часть их поэтического наследия представлена в изданной вами книге?
С.К.: Конечно, о прямом влиянии Хлебникова или итальянских футуристов на ранних Гординых говорить трудно, всё же оба брата в те годы, скорее всего, «питались» другими влияниями (надо учесть ещё, что они жили за чертой оседлости, в Литве и Польше) – здесь не только обязательная еврейская мистика, но и европейские анархисты, западные философские, психологические и педагогические теории, а также модернистские литературные веяния. Всё это давало их идеям сильный антиавторитарный заряд. Вот что говорит их Младочеловек: «Я объявляю конец авторитократии и начало Вечного Творчества – и всякому даю право на гениальность». Эти идеи потом разовьются в понимание революции как творчества (в книге есть текст с таким названием) или в доктрину всеизобретательства. Но во многом сходными влияниями жили и первые футуристы, они также отстаивали максимальную творческую свободу, безграничное экспериментирование и изобретательство. Как это часто бывает, Гордины шли каким-то близким или параллельным путём. Ранние их пьесы я прочесть не могу, поскольку они напечатаны на идише и пока не переведены, но по всему видно, что братья прикоснулись и к тому, что было «тайным знанием» русских литературных новаторов. Леонид Геллер в своей статье приводит такой интересный фрагмент из воспоминаний сына религиозного философа Гилеля Цейтлина (речь идёт о 1912–1914 годах): «…Два брата со лбами раввинов, с горящими глазами, одетые в чёрные русские „рубашки‟, с такой еврейской жестикуляцией большим пальцем, были первыми „футуристами‟ еврейской литературы. Во всяком случае, это верно по отношению к экзотизму их формы. Они вносили анархию даже в литературу… Они использовали странный идиш и гиперрадикальную орфографию». В одной из своих ранних написанных на русском педагогических брошюр (а они создали свою школу в одном из местечек) они рассуждают об экспериментировании с фонемами (между прочим, тоже 1909 год!), а в теоретическом трактате «Наши сочинения» 1913 года говорят о космическом языке, напоминающем нам о «звёздном языке» Хлебникова, идея которого возникла даже позднее. В изданных уже в 1950-е годы воспоминаниях Абба рассказывает о футуристическом «Кафе поэтов» (в оставшееся от него помещение ненадолго переселилась редакция «Анархии»), о первосвященнике Маяковском, о поэтах с раскрашенными лицами и, главное, о зауми, сопоставляя её с еврейскими молитвенными заклятиями, – и становится очевидным, что братья рефлексировали подобные связи достаточно давно (эта главка из мемуаров есть в книге). Оказавшись в Петрограде и в Москве в 1917 году, Гордины, конечно, как и многие прочие, испытывают влияние ещё модного тогда футуризма, активно проникавшего в анархистскую среду. В книге я привожу лишь несколько стихотворений Аббы, которые показались мне весьма выразительными и своеобразными, хотя в них может присутствовать словоизобретательство а-ля Хлебников, Каменский или Северянин, футуристическая ломка синтаксиса и размера. Справедливости ради замечу, что стихи братьев периода питерско-московского анархизма – это чаще всего такие зарифмованные тезисы или многословные и туманные аллегории, сочинённые довольно небрежно и без внимания к собственно поэтическим смыслам. Но гораздо важнее то, что настоящие поэтические смыслы прорастают как раз в их статьях и книгах, которые в большей мере дают импульсы чувствам и озаряют новыми ракурсами, нежели представляют собой какие-либо инструкции или партийные циркуляры.
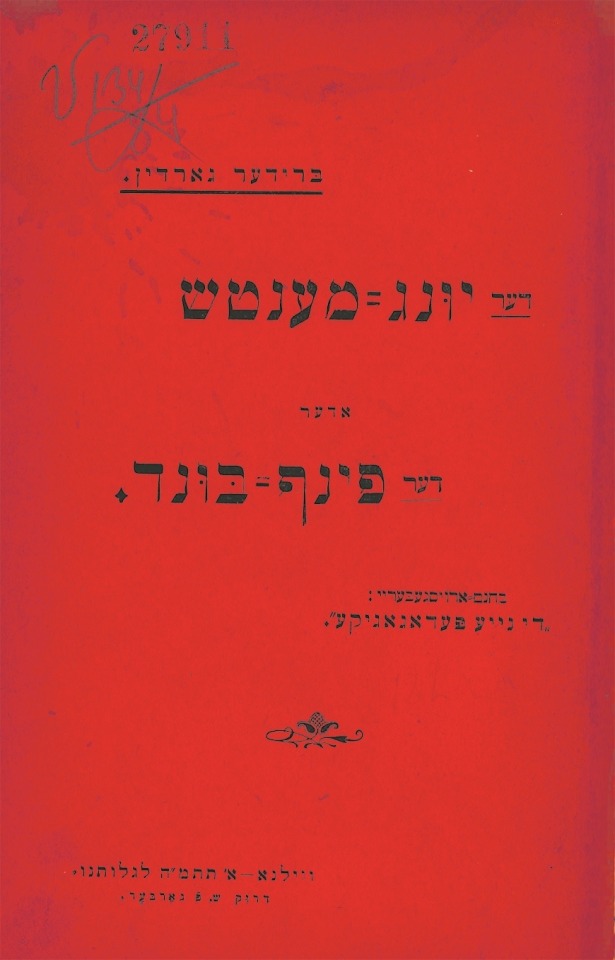
Братья Гордины, МЛАДОЧЕЛОВЕК, Вильно, 1914 (обложка книги)
И.С.: По поводу центрального текста книги. Если воспринимать СТРАНУ АНАРХИЮ не как поэтическое мечтание, а буквально, то есть оценивать описанную ими утопию по законам действительности (скорее философским, а не строго научным), то что вы можете о ней сказать? Мне, например, показалось, что она выстраивалась по принципу СТРАНЫ, ИЗБАВЛЕННОЙ ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ, но в итоге люди в ней оказались расчеловечены, лишены каких-то фундаментально важных черт, так что с этой точки зрения она на меня произвела несколько гнетущее впечатление.
С.К.: Иван, мне не кажется, что стоит воспринимать утопию по каким-то «законам действительности», ты зачем-то ищешь здесь конкретный прагматический смысл, чуть ли не инструкцию по возможной жизни. А это именно поэтическая фантазия, мечта о некой гармонии, воображаемой и недостижимой. И своего рода грёза мужа об идеальной жене, которая, будучи избавлена от истерик и фобий, от стремления командовать, делать выволочки или самопроизвольно обороняться, от глупого притворства или комичного алогизма в поступках, увы, просто перестанет быть женщиной. Но я хочу сказать и о другом: ведь желание невозможного – это одно из основных желаний любого подлинного художника. В нашей с Бренером книге о зауми я вспоминал историю о том, как Малевич хотел изобрести кубик, который бы сам парил в воздухе, а Филонов пытался создать такую картину, чтобы она смогла висеть на стене без гвоздя, одной лишь силой искусства. В утопии о стране анархии многое делается только силой желания, слова, просьбы. Между прочим, настоящий поэт стихотворением или даже одной строкой всегда хочет перевернуть мир. И Ильязд в конце концов назвал поэзию «покушением с негодными средствами», но всё же продолжал верить в её волшебную способность изменить что-то в жизни, иначе бросил бы писать стихи. Без такой невоплотимой мечты, без сказки надо забыть об искусстве, да и о настоящих переменах в человеческом обществе. Сила мечты – в самом стремлении, в стремлении вопреки любому рациональному осмыслению. В противном случае надо просто жить по законам достижимого, принимать существующие «правила игры» и, по большому счёту, своими же руками возвращать всё на круги своя. А избавление от всех проблем современности – чем не замечательная и наивная мечта? Кстати, именно за эту мечту, за веру в волшебство, притом немедленное, многие другие анархисты считали Гординых безумцами, отвлекающими людей от политической борьбы. Наконец, скажу последнее. Ведь главный импульс авангарда, по крайней мере русского, как, впрочем, и дада, и сюрреализма, как и идей Гординых, – это как раз возвращение человеческого, торжество иррационального и, повторю, наивного, это триумф Человека, его освобождение от власти им же созданного и беспрестанно воспроизводимого Циркуляра. И, кстати, Техника, о которой так много писали братья, – это не господство аппаратов или искусственного интеллекта, а, наоборот, высвобождение творческой фантазии людей, бесконечное изобретательство.
И.С.: Незадолго до вашей книги Гординых в издательстве КОММОН ПЛЕЙС вышла их же книга с другим набором текстов и общим составительским подходом, они пересекаются по СТРАНЕ АНАРХИИ и, кажется, одному небольшому тексту. Для человека, стоящего в стороне от книгоиздания, ситуация выглядит непонятной – как получилось, что забытых авторов опубликовали два издательства сразу? Знали ли они о работе друг друга? Делали параллельно, конкурировали или сотрудничали?
С.К.: Верно, в common place вышла книга Гординых «Страна Анархия», куда, насколько я знаю, включена одноимённая утопия и ещё две другие работы: более ранняя сказка-лубок «Почему?» и сборник пананархистских воззваний. Подготовлена она философом Евгением Кучиновым, ��оторый до этого у них же выпустил сти��и и статьи поэта-биокосмиста Александра Святогора. Когда я начинал работу с текстами, ��не ничего не было известно о чьих-то похожих планах, но потом в сети появилась статья Кучинова о Гординых, и я, догадавшись про потенциальных издателей, спросил у них об этом напрямую (мы давно знакомы). И хорошо, что спросил, – успел перед отдачей книги в типографию поменять заголовок, иначе бы не только авторы, но и названия у нас совпали. Зачем же путать людей и смешивать в их восприятии два довольно индивидуальных «продукта», действительно отличающихся подходами? Каждый издатель, разумеется, считает свою книгу особенной и неповторимой. И я свою «Анархию в мечте» считаю, без сомнений, более совершенной и цельной, что достигалось не только особым подбором текстов (концепция книги для меня всегда важна), но также специально сделанными для неё переводами из поздних работ, комментариями и дополнительными материалами, включающими более точные биографические данные и подробный историко-литературоведческий анализ. Я уж не говорю о чисто полиграфической стороне. Но то, что о братьях вдруг заговорили одновременно, – это же здорово! И читатели имеют возможность выбрать одно из этих двух изданий или освоить оба, ведь они так или иначе друг друга дополняют. У Гординых, кстати, есть ещё пара десятков не переизданных книг – это только на русском. Переиздать бы, например, Вольфову гениальную «Социомагию и социотехнику», которая не слабее «Общества спектакля» Дебора! Недаром она, по словам братьев, конфисковывалась ЧК. Или перевести с идиша двухтомные мемуары Аббы, вышедшие в Буэнос-Айресе, в них содержится множество разгадок гординских тайн.
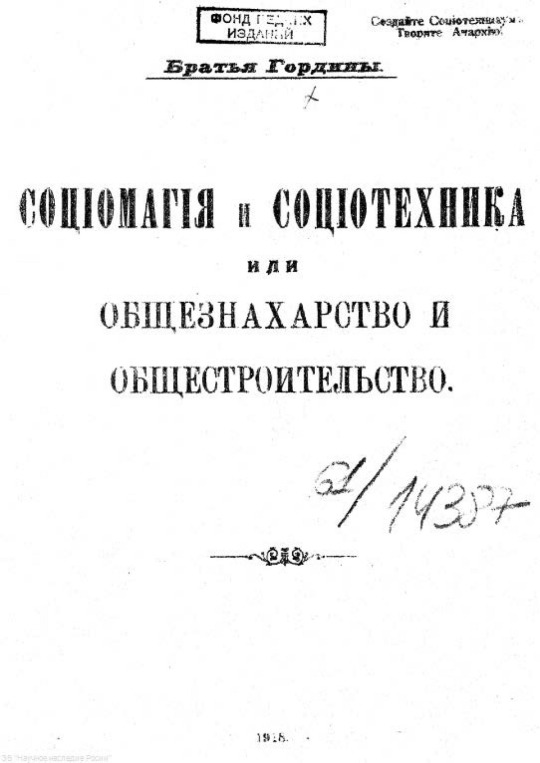
Бр. Гордины (Вольф Гордин), СОЦИОМАГИЯ И СОЦИОТЕХНИКА, 1918 (обложка книги)
И.С.: Вы уже не первый раз ссылаетесь на ценные материалы о братьях Гординых, которые доступны только на идише. На этом фоне встаёт вопрос: как вы думаете, почему историки и исследователи еврейской литературы не берутся за них, за их популяризацию? Ведь в России такие имеются, выходят тематические серии и, казалось бы, обозреть те стихи, о которых вы говорили, – дореволюционные опыты, напоминающие футуризм – было бы им весьма естественно; это могло бы стать вполне ГРОМКИМ фактом в истории литературы, если подкрепить его достаточной исследовательской базой. Могут быть какие-то объективные факты, почему им это не интересно, или, например, просто не дошли руки?
С.К.: Сказать честно, для меня это тоже довольно странно. Насчёт «не дошли руки» не знаю, а чего бы им не дойти: ведь тот же Абба – довольно известная личность в еврейских левых кругах, в частности, в Израиле. Он долгие годы, живя в США, писал анархистские труды на идише и на английском, потом уехал в «землю обетованную», публиковался и на иврите. Думаю, проблема здесь не только в том, что на идише читает далеко не всякий, но и в том, что «авангардный» и «анархистский» дискурсы мало где сходятся, в том числе и в еврейской интеллектуальной среде. Кстати, одна из статей Геллера о Гординых и авангарде, где хотя бы указано общее направление поисков, была напечатана 13 лет назад именно в Израиле, в научном журнале Jews and Slavs, но подтолкнула ли она кого-то к чему-то? Вот ещё совсем недавний пример к твоему вопросу. Штатный рецензент «Коммерсанта» Игорь Гулин, обладающий имиджем такого книжника-интеллектуала, недавно опубликовал свой отзыв-пересказ коммонплейсовской книжки Гординых, где прошёлся по ней, как обычно, отстранённым и пресыщенным взглядом и явно ничего в ней не понял. Хотя в этом сборнике напрямую отсутствуют темы, о которых ты спрашиваешь, там всё же есть достаточно того, за что легко зацепиться пытливому уму. Поможет ли такое отношение кому-то заинтересоваться братьями? Вряд ли. В свою очередь, теперешним профессиональным исследователям авангарда, по крайней мере, нашим, это не интересно, потому что в большинстве они придерживаются вполне традиционных и государственнических убеждений, а может, никаких убеждений у них и вовсе нет, но анархизм для них – что-то явно нехорошее, даже опасное, они эту сторону стараются обходить. К тому же они заняты цеховыми спорами, делают какие-то свои карьеры, любят тусоваться и красоваться на конференциях и более всего увлечены собственными интерпретациями, но не первоисточниками. А между прочим, случай Гординых даёт им большой простор для всевозможных и очень выгодных для себя толкований, чем они рано или поздно непременно воспользуются. Такие интерпретаторы – одни из тех, кто приручает неуправляемое и непослушное, поясняет неопределённое и таинственное, обезвреживает неблагонадёжное, соединяет несовместимое и разъединяет солидарное. От них несёт канцелярией и скотобойней, тогда как «Гилея» напоена поэзией и ароматами весенней горной долины. Тем же, кто называет себя анархистами или занимается историей движения, любой авангард, как правило, представляется к делу не относящимся, этакими выкрутасами. Подобное они стараются отбрасывать. Кстати, и сами Гордины для многих из них – довольно спорные фигуры (эту тему ты тоже найдёшь в гилейской книге). В итоге я был едва ли не единственным за долгие годы, кто заказал все эти старые книги в РГБ и даже успел подробно обсудить их содержимое с консультантом по идиш-литературе.
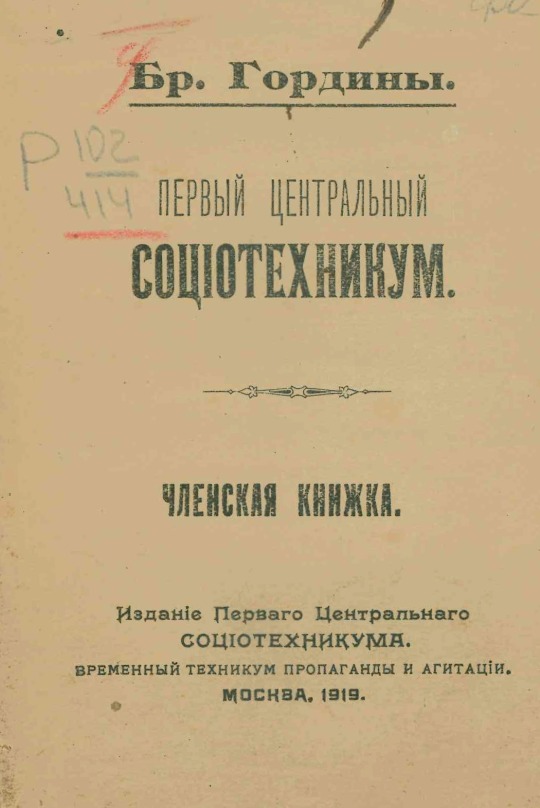
Бр. Гордины (Вольф Гордин), ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОЦИОТЕХНИКУМ, 1919 (обложка издания)
И.С.: А что вы имели в виду, сравнивая СОЦИОМАГИЮ И СОЦИОТЕХНИКУ Гординых с ОБЩЕСТВОМ СПЕКТАКЛЯ? Там описываются схожие механизмы управления на более раннем этапе? Или аналогия идёт по каким-то другим признакам? Да и в целом было бы интересно услышать, какие параллели вы проводите между Гордиными и теми западными авторами и движениями, которые входят в интересы ГИЛЕИ.
С.К.: Иван, «Социомагию и социотехнику» написал старший брат, Вольф Гордин, в 1918 году. Это довольно большая книга с множеством разных любопытных мыслей, которые также можно обнаружить в гординских статьях и лекциях того времени. Одна из центральных идей книги, идея социомагии, напрямую перекликается с теорией Дебора, возникшей несколькими десятилетиями позже. Социомагия – это комплекс приёмов, применяемых государственной властью, политической теорией, религией, системой образования для поддержания масс в повиновении, её основная стихия – принуждение. В число этих приёмов входят угрозы, проклятия, наказания, похвалы, благословения, вознаграждения, заклинания, а также то, что особенно важно здесь выделить: манипулирование наименованиями, переименованиями и понятиями (изменение объёма понятия, соединение нескольких в одном, переворачивание знака понятия и др.) и магия абстракции (т. е. агитация и пропаганда), применяющая силу знака, символа, условности, а в конечном счёте – обмана. Чем это не перманентный спектакль власти? Социомагии, которая оказалась характерна и для пришедших к власти ленинцев, Гордин противополагает социотехнику, чьими душой и стихией являются постоянная революционность, вечное созидание и творчество, изобретательство. Ровно как и Дебор противопоставляет спектаклю ситуацию – изменяемую мимолётную жизненную обстановку, связанную с волей случая, с игрой, с поэзией повседневной жизни, и говорит о необходимости изобретения различных ситуационистских техник. Интересно, что ведь концепция «Общества спектакля» в сжатом виде содержится в работе Людвига Фейербаха «Сущность христианства», и именно на критике христианства, а также марксизма разворачивает свою аргументацию Гордин. Довольно глупо отрицать актуальность обеих доктрин: если, скажем, пятьдесят лет назад ещё можно было порассуждать о том, где они попали в точку, а где нет, то сегодня, пожалуй, не осталось ни одного участка жизни, который бы не был так или иначе подвержен социомагии и спектаклю. Наконец попробую ответить на вопрос о параллелях между идеями братьев и другими издававшимися мною западными авторами. Интересно, что уже в «Стране Анархии» появляются мотивы, очень сходные с дадаистскими – как раз с теми, которые дали толчок ситуационистским идеям Дебора. «Ведь вы воспитаны на каком-то „причинном‟ законообразном миропонимании, – говорит ходокам человек из страны Анархии, – здесь же, в стране Анархии, верят только в случай, в игру свойств предметов, у нас верят в чудеса и творят чудеса». Но в те же самые годы опытами со случайностью и «беспричинной упорядоченностью» как раз занимались дадаисты, отвергавшие «официальную веру в непогрешимость разума, логики и причинности» (Ханс Рихтер). Абсолютно дадаистская «Философия Социотехникума» 1919 года, опубликованная в новой гилейской книжке, отрицает как бога, причинность и законы природы, так и законы мышления и вообще закономерности в мире. Это снова текст Вольфа, в котором он рассуждает чуть ли не в правилах «воображаемой» логики Николая Васильева: «…Мир необъясним и не необъясним. Мир и объяснение не соотносительны… Мир непознаваем и не непознаваем. Мир и познание не соотносительны». Но это путь к пониманию перевёрнутости нашего мира, в котором абсурд, иррациональное считаются нарушением законов логики, а не наоборот, а как раз этим пониманием жили западные дадаисты и пришедшие за ними сюрреалисты.
И.С.: Последний вопрос будет касаться не самих Гординых, но он возникает в связи с выходом обсуждаемой книги! Там появились анонсы двух грядущих публикаций – поэмы Петра Смирнова и докладов Ильи Зданевича под названием ДОМ НА ГОВНЕ. Что же ждёт нас в этом доме?А про Смирнова – ведь он был одним из первых авторов, которого выпускала ГИЛЕЯ, но с тех пор его книг больше не выходило. Несколько лет назад в одной из заметок вы писали: «В нашем архиве сохранились и подготовленные к изданию машинописи, не вошедшие в сборник 1993 года. Возможно, нам удастся сделать новую книгу смирновских стихов, куда войдут эти неизвестные материалы». Какие трудности были с подготовкой этих материалов, и как удалось их преодолеть?
С.К.: Да, там есть анонсы двух следующих книг серии. Сейчас как раз вновь занимаюсь Петром Смирновым, книжка которого, «Будуинские холмы», вышла в «Гилее» уж больше четверти века назад. Но тогда из-за разных трудностей появился не весь сборник, который поэт Александр Ерёменко собрал и напечатал на машинке, а лишь его сокращённая версия. С Петром я был знаком, и мне удалось уговорить его на копирование рукописи «Сказки», огромной многосоставной поэмы о царях и богах – в имеющейся у меня версии 336 страниц. Он был малограмотен (имел вроде бы всего 4 класса школы), работал грузчиком в овощном магазине, а вещи писал невероятные, очень лиричные и образные, был настоящим архаистом хлебниковской закваски, мастером эпического размаха, своего рода философом и провидцем. По разным причинам Петра относят к разряду «наивных» поэтов, его называли даже «королём примитивистов» (В. Тучков). Я не уверен, что у этого короля были свои подданные, да и «примитивист» – это не совсем точно: получается, что это он как бы нарочно ломает грамматику (так считали и некоторые другие критики, подозревая мистификацию), а Пётр по-другому писать не умел. И перепахивал косыми строками лист за листом, складывая их в стопки под кровать. Ерёменко проделал титанический труд, набрав на компьютере весь текст поэмы, написанной к тому же довольно убористо и малопонятно. А потом Саша Умняшов помог с набором полной версии «Будуинских холмов» и с правкой «Сказки». «Гилея» уже не раз собиралась повторно издать Смирнова, но это по разным причинам откладывалось – и я сам никак не мог понять, нужен ли он кому-то сегодня. Но сейчас всё сложилось, и книга готова быть следующей, 27-й в серии Real Hylaea; из относительно современных российских явлений такого рода (я имею в виду поэтов-непрофессионалов и подлинных безумцев) в серии был пока только Сандро Мокша. А затем планируется «Дом на говне», сборник докладов Ильязда, которые поэт делал в Париже в 1920-е годы. Так называется один из них, посвящённый поэзии Тютчева и России. Ещё туда войдут «Новые школы в русской поэзии», «Поэзия после бани», «Соль Есенина», «Берлин и его халтура» (этот замечательный доклад рассказывает о чаяниях подлинного авангарда и о фальшивке модернизма) и т. д., всего примерно полтора десятка текстов, из которых в России напечатаны, по-моему, только две «Илиазды» (в гилейском же издании). В приложении, скорее всего, будет неизданная пьеса 1940 года «Покушение с негодными средствами». Кстати, идея опубликовать доклады Ильи Зданевича – тоже старая, так что выходит, что я собираю камни.
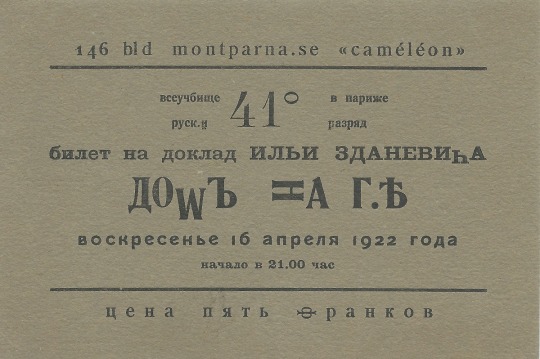
Билет на доклад Ильи Зданевича ДОМ НА ГОВНЕ, 1922 г.
П.С. Все иллюстрации предоставлены Сергеем Кудрявцевым. Для заглавной иллюстрации использована обложка книги: Братья Гордины (Абба Гордин), АНАРХИЯ В МЕЧТЕ, 1919 г.
8 notes
·
View notes
Text
Интервью с Александром Умняшовым
Пару месяцев назад издательство ГИЛЕЯ выпустило книгу Грейла Маркуса СЛЕДЫ ПОМАДЫ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА, о которой вы явно слышали и, вероятно, уже успели прочитать. Мы же пошли дальше и заставили Ивана Смеха взять интервью у её переводчика Александра УМНЯШОВА. В наличии обсуждение как книжной, так и музыкальной деятельности Александра.
Иван Смех: Саша, приветствую! В ЖЖ ты присутствуешь под псевдонимом ГИЛЕЕЦ, и этот факт, как я понимаю, является достаточно характерным. Можешь рассказать свою автобиографию в рамках издательства ГИЛЕЯ? Я знаю, что ты долго работал в магазине ГИЛЕЯ (кстати, кто там был твоими коллегами?), довольно много общался лично с Сергеем Кудрявцевым, подготовил три книги, но хотелось бы узнать поподробнее.
Александр Умняшов: Привет, Иван. Занятно, что ты вспомнил об этом! ЖЖ сейчас несколько устаревшая тема, я его подзабросил, давно туда ничего нового/существенного не выкладывал. Когда я вёл его активнее, это был обычный ЖЖ со всякой всячиной: переводы, любимая мной поэзия, личные заметки о событиях и знакомых людях. Иногда отзывы о книжках, концертах и выставках. Самое ценное на этой странице – это, конечно, переводы, потому что там затрагивались темы, интересные более широкой аудитории, чем круг моих знакомых.
ГИЛЕЕЦ – это, само собой, производное от ГИЛЕИ. Когда журнал начинался (осенью 2007-го), я уже три года работал в книжном магазине ГИЛЕЯ, который находился в ныне сгоревшей библиотеке ИНИОН РАН на Профсоюзной. Наш коллектив был довольно дружным, в том числе потому, что все работники, в тех или иных аспектах, увлекались книгами одноимённого издательства, и Сергею Кудрявцеву, как я припоминаю, тоже было интересно делиться своими идеями и планами с увлечёнными читателями. Тем более что скоро наш друг-музыкант-гилеец Витя Вдовин открыл Сергею прекрасный мир современной тяжёлой музыки (SWANS, NEUROSIS, ISIS, TOOL и прочие такие же), и наша культурная жизнь понеслась по этой скользкой дорожке – в те времена было много концертов подобной музыки, которые мы вместе активно посещали.
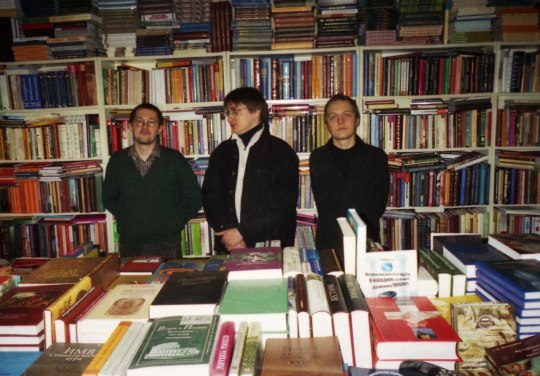
В магазине ГИЛЕЯ в 2007 году – Александр Умняшов, Кирилл Захаров, Витя Вдовин.
Другой работник магазина, наш друг-литератор-гилеец Кирилл Захаров, который больше интересовался авангардной составляющей каталога ГИЛЕИ, чем тогдашней магистральной книжной серией ЧАС Ч, помогал Сергею в работе над сборником Бориса Поплавского ОРФЕЙ В АДУ (2009).
К настоящему времени в ГИЛЕЕ вышло три книги в моём переводе – это сборник MOTHERFUCKERS: УЛИЧНАЯ БАНДА С АНАЛИЗОМ (2008), сборник статей Боба Блэка АНАРХИЯ И ДЕМОКРАТИЯ (2014) и, два месяца назад, монография Грейла Маркуса СЛЕДЫ ПОМАДЫ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ХХ ВЕКА. В нескольких других изданиях Сергей приглашал поучаствовать в первоначальной подготовке текстов: поиск в библиотеках, набор рукописей и прочие такие вещи.
И.С.: Расскажи поподробнее про эти книги. По каким принципам они были выбраны для перевода? Что тебя в них привлекло?
А.У.: Первые две книги – это издательская инициатива. В 2006 году серия ЧАС Ч была в разгаре, и Сергей искал материалы для новых книг. У него имелось английское издание текстов MOTHERFUCKERS, которое ему с похвальбой отдал Александр Бренер. Сама эта книга, как выяснилось позже, принадлежала Максу Силину из издательства BAD HABIT, выпустившего в 1999 году две книги Бренера/Шурц – БЗДЯЩИЕ НАРОДЫ и РТУТНЫЕ ПАЛОЧКИ.

Из архива издательства BAD HABIT – оригинальный рисунок Александра Бренера и Барбары Шурц из книги БЗДЯЩИЕ НАРОДЫ
У меня к тому времени ещё не было опыта большой переводческой работы, но мне было интересно попробовать, меня интересовала тема – контркультура американских 1960-х – поэтому я взялся. Читая и переводя МАЗАФАКЕРОВ, узнал для себя массу интересного. Я открыл для себя ВИЛЬГЕЛЬМА РАЙХА, ЛАСЛО МОХОЙ-НАДЯ, злободневные аспекты действительности Америки того времени, ранее известные мне только через призму рок-музыки, Вудстока и всего что вокруг. Но не только это: МАЗАФАКЕРЫ считали себя в теории и на практике последователями дадаистов и сюрреалистов, а также единомышленниками ситуационистов, с которыми они переписывались и хотели стать частью Ситуационистского интернационала, но не срослось. Вкупе с доступными мне тогда книжными сокровищами вроде гилейского АЛЬМАНАХА ДАДА, свежевышедшей РЕВОЛЮЦИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ Рауля Ванейгема, ещё не закончившегося в то время первого тиража ОБЩЕСТВА СПЕКТАКЛЯ Ги Дебора, всё это так или иначе подталкивало меня в сторону некоего синтеза новых знаний – и вскоре я наткнулся на СЛЕДЫ ПОМАДЫ Грейла Маркуса – и где же? – в первом гилейском сборнике Боба Блэка. В той книге я обнаружил рецензию на выставку ситуационистского наследия 1989 года (которую курировал Маркус), а также рецензию на книгу Стюарта Хоума НАПАДЕНИЕ НА КУЛЬТУРУ (не переведена на русский, но доступна в оригинале), в которой Блэк прошёлся и по Хоуму, и по Маркусу. С творчеством Хоума я был шапочно знаком по его книгам, выходившим в знаменитой оранжевой серии АЛЬТЕРНАТИВА издательства АСТ. Но меня не привлекал авторский стиль и темы, так что я бросал его сочинения недочитанными. Поэтому я разыскал книгу Маркуса — она вышла в 1989 году и до сих пор остаётся камнем преткновения для многих людей, интересующихся искусством авангарда ХХ века — есть те, кто её всячески одобряют (Билл Браун из известного в узких кругах пост-ситуационистского зина NOT BORED), есть те, кто ее ненавидят (Стюарт Хоум, это понятно), есть те, кто считает её скучной и плохо написанной (Боб Блэк). Из сегодняшнего дня она может выглядеть немного устаревшей, но для конца 1980-х это был прорыв. Это сейчас нам всё доступно и многое — в русских переводах. В 1980-е даже тексты Ги Дебора можно было с трудом найти на английском, не говоря уж о леттристах (с дада чуть попроще). Маркус пообщался с некоторыми участниками тех движений, что вполне себе ценный материал (у Хоума этого и в помине нет). Плюс необычная подача — Маркус некоторым образом перенял ситуационистский способ письма — писать "тезисно", отрывочно, само название книги выбрано тем методом, каким ситуационисты давали названия своим текстам. Читатель, ищущий первых знаний об этих предметах (каким был я, читая книгу), может вдохновиться искать информацию дальше — собственно читать тексты самих леттристов-ситуационистов-дадаистов. А вот искушённый в этих вопросах исследователь (или человек, мнящий себя таковым) почти наверняка будет воротить нос. На выходе оказалось, что это книга больше для молодых читателей, чем для умудрённых, хотя у меня нет ощущения, что автор гнался за молодёжной аудиторией. Он гнался за разгадкой своих собственных тайн, о чём он и проговаривается ближе к концу. Так что, не закончив ещё даже перевод МАЗАФАКЕРОВ, я завёл ЖЖ и начал выкладывать туда пере��од СЛЕДОВ ПОМАДЫ. В те времена ЖЖ являлся популярным местом для онлайн-общения, поэтому было естественно и удобно публиковать свои наработки там.
Что же касается АНАРХИИ И ДЕМОКРАТИИ Блэка, то изначально задумывалось не совсем то, что вышло в итоге. В 2012 году Сергей запустил мегакрутую книжную серию REAL HYLAEA и захотел выпустить в ней сборник Блэка, но не с его критикой и политической философией, а с ХУДОЖКОЙ! У Блэка есть небольшое количество таких полухудожественных текстов, вроде ПРИТЧИ из первого гилейского сборника. Сергей попросил меня проштудировать книги Блэка и найти что-нибудь подходящее для концепции REAL HYLAEA. Но затем мы решили написать автору, чтобы он сам сделал подборку. Блэк очень обрадовался, он даже не знал, что в 2004 году в России вышла его книга. Но он сказал, что такой ПОЛУХУДОЖКИ у него всего ничего, но зато новых текстов много, и мы начали выбирать из того, что он предложил. Интересного там, действительно, оказалось достаточно, и в 2014 году вышел тот сборник, который есть.
И.С.: Ещё относительно Маркуса. Книга была переведена, выложена у тебя в ЖЖ и долго ждала своего часа. Наверное, за это время были какие-то публикации отрывков, приходили какие-то отзывы. Расскажешь об этом?
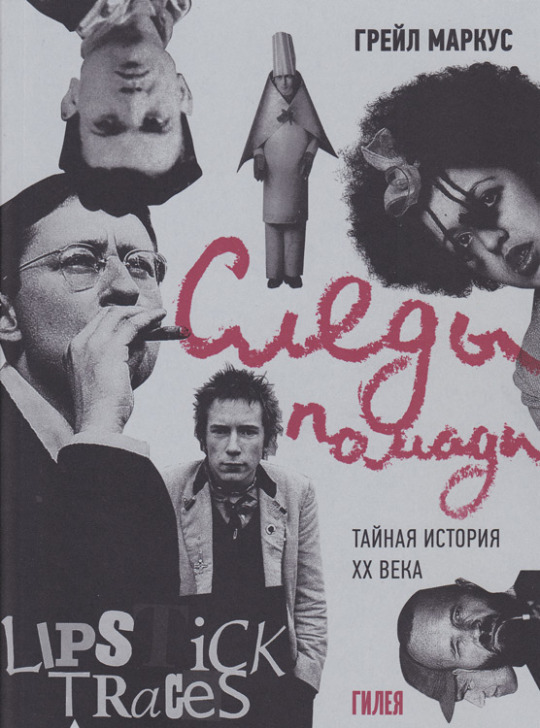
Книга Грейла Маркуса, вышедшая в издательстве ГИЛЕЯ в 2019 г.
А.У.: Отзывы, конечно, доходили. Первыми читателями были мои друзья-гилейцы, они поддерживали и указывали на ошибки. В эпоху ЖЖ я познакомился со многими классными людьми, которых заинтересовала тематика СЛЕДОВ ПОМАДЫ. Например, со Степаном Михайленко, который тоже занимался переводами ситуационистских текстов с французского, он много вещей мне подсказал в главах про Ги Дебора и компанию. Впоследствии Степан стал успешно сотрудничать с ГИЛЕЕЙ, где вышло уже несколько его переводов; ещё – с Алексеем Караковским, лидером рок-группы ПРОИСШЕСТВИЕ (потом некоторое время я был там барабанщиком). В первой половине 2010-х он выпускал бумажный журнал КОНТРАБАНДА, в котором была перепечатана почти половина книги Маркуса, за что я Алексею очень благодарен. Или, например, фрагмент про Исидора Изу публиковался также в русско-израильском сетевом журнале ДВОЕТОЧИЕ, за что спасибо его редактору Гали-Дане Зингер.
Вообще отзывов и, что ценно, подсказок и уточнений было много. Но поскольку прочитать такой объём с экрана довольно трудно, то люди обычно выбирали главы на интересную им тему: панк, дадаизм, леттризм или ситуационизм – и изучали книгу частично.
Разумеется, за прошедшие десять лет я предпринял ряд попыток предложить свой перевод разным издательствам. В 2009 году, когда стало понятно, что ГИЛЕЯ по техническим причинам не готова взяться за этот проект, я обратился в АД МАРГИНЕМ. Тамошний редактор Александр Иванов, надо отдать ему должное, своим опытным взглядом указал мне на несовершенство перевода (что тогда было абсолютно верным), но он также назвал книгу «неактуальной». Кто знает, может, по-своему он был прав? Если говорить о медийной «актуальности», то в этом смысле издание СЛЕДОВ ПОМАДЫ в России было бы очень актуально в 2012 году, когда вовсю шумело дело ПУССИ РАЙОТ. Даже западные СМИ вспоминали книгу Маркуса и фрагмент оттуда, повествующий о хулиганской акции леттристов в Нотр-Даме. Когда мы уже познакомились с Маркусом, выяснилось, что он симпатизирует акциям ПУССИ РАЙОТ, и возникла идея предложить Наде Толоконниковой написать предисловие к русскому изданию. Мне даже удалось с ней пересечься и передать оригинальную книгу, но, видимо, она так и не нашла времени или интереса, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. Такой вот, если можно так выразиться, НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ ОТЗЫВ.
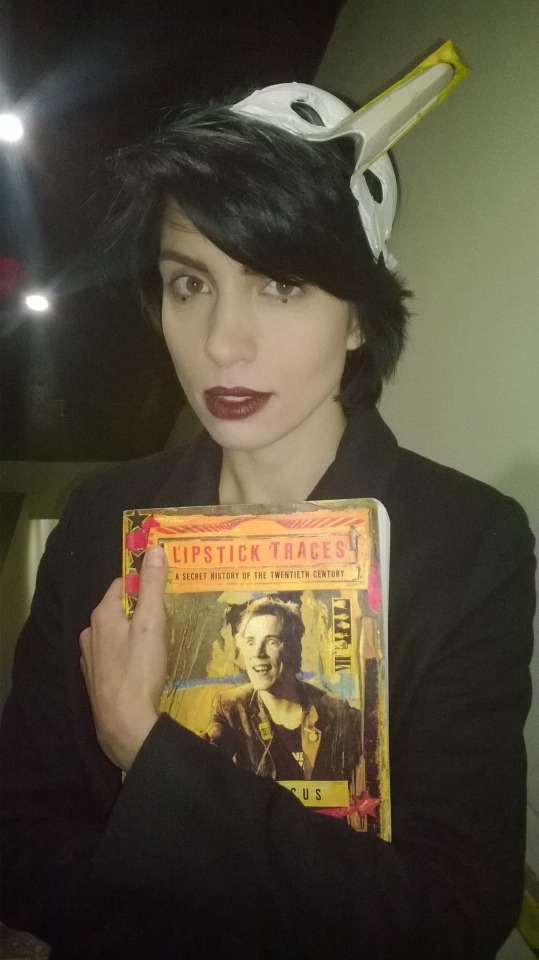
Надежда Толоконникова на концерте в поддержку политзаключённых (январь 2016 г.)
И.С.: На фоне свежевышедшей книги Стюарта Хоума ВЗВИНЧЕННЫЕ: ПАНК-РОК. ЖАНРОВАЯ ТЕОРИЯ очевидно будут всплывать аналогии, тем более что он там напрямую критикует Маркуса. Можешь выступ��ть его апологетом?
А.У.: Я приведу здесь мнение самого Грейла Маркуса, которое он недавно высказал в письме: «Стюарт Хоум, на мой взгляд, не более чем карьерист и окультуренный вредитель – его НАПАДЕНИЕ НА КУЛЬТУРУ сочится завистью к людям, о которых он пишет, и мне кажется, поэтому он пишет о них с такой надменностью. Я был встревожен, когда его книга вышла за несколько месяцев до моей, опасаясь, что там будет материал, имеющий отношение к СЛЕДАМ ПОМАДЫ, и что моя книга окажется неполной или даже ошибочной. Но мне не о чем было беспокоиться». Маркус высказал это в связи с моей историей о том, как я узнал о его книге (из рецензий Боба Блэка на выставку ситуационистов и книгу Хоума). Маркус также добавил, что, работая над СЛЕДАМИ ПОМАДЫ, читал многие тексты Блэка. Я пересказал это Блэку, и он ответил, что никогда не любил тот стиль журналистики, который для него олицетворяют Маркус и Лестер Бэнгс, а его мнение о Хоуме за прошедшие тридцать лет стало ещё хуже.
Что же касается моего мнения, то я внимательно просмотрел ВЗВИНЧЕННЫХ и прочитал несколько глав, посвящённых критике Грейла Маркуса. То, с какой настойчивостью, высокомерием, презрением Хоум отзывается о книге и личности Маркуса на протяжении всей книги, только подтверждает моё давнее стремление выбрать для расширения знаний именно СЛЕДЫ ПОМАДЫ, а не НАПАДЕНИЕ НА КУЛЬТУРУ. И тот, и другой писали примерно на одну и ту же тему – но по-разному. Мне ближе взгляд и подход Маркуса – он хотя бы пытается рассказать какую-то историю, опираясь на редкие или подзабытые в 1980-е годы (время написания книги) печатные или живые источники информации. А Хоум ничего не рассказывает, он только полемизирует с пеной у рта и ведёт себя как Захар Прилепин, беспрестанно пытающийся доказать, что все вокруг неправы, а он прав. У Алексея Цветкова-младшего была книга, похожая по форме (и чуть-чуть по содержанию) на НАПАДЕНИЕ НА КУЛЬТУРУ – она называлась ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА (выпущена под псевдонимом Серж Михалыч – КОНТРКУЛЬТУРОЙ в 2011 году). Там вроде бы много интересной информации, но её разнузданная подача не позволила мне дочитать книгу. Подобная разнузданность, в стиле нетрезвого монолога на кухне, меня отталкивает и от сочинений Хоума. Что называется, НИ УМУ НИ СЕРДЦУ. Последний штришок: Стюарт Хоум во ВЗВИНЧЕННЫХ критикует Маркуса, в частности за то, что тот не упомянул МАЗАФАКЕРОВ в своей книге – Хоум считает их гораздо более подходящими кандидатами на звание предтеч панка, чем ситуационистов. Напомню, что гилейский сборник про МАЗАФАКЕРОВ я переводил почти параллельно со СЛЕДАМИ ПОМАДЫ – и у меня тоже возникало ощущение, что Маркус был в шаге от того, чтобы приплести их к своему повествованию. Т.е. в этом аспекте я вроде бы должен симпатизировать Хоуму. Но, собирая по крупицам материал для мазафакерского сборника, я поместил туда даже ругательные отзывы их противников в 1960-е – но мне был настолько неприятен Хоум, что его материалы о МАЗАФАКЕРАХ (скудные) я не смог заставить себя включить в книгу.
И.С.: Вопрос ИЗ ЗАЛА! Ваня Айван передаёт записку: «НОУ ВЕЙВУ как музыкальному жанру присуща определённая тупиковость. В существующих условиях может ли это всё-таки являться точкой отсчёта, и если да, то отсчёта похода в какую сторону? Изначально само название было своего рода антитезой НЬЮ ВЕЙВУ. Как ты думаешь, в настоящее время с чем жанр должен антагонировать и должен ли вообще?»
А.У.: Насколько я понимаю, этот блок вопросов звучит в связи с моим давним переводом фрагмента из книги про NO WAVE. Я не являюсь большим знатоком этого пласта культуры, поэтому некоторые общие соображения: вероятно, тупиковость была присуща и другим музыкальным жанрам: советскому року времён Ленинградского рок-клуба, Мэдчестеру, московскому формейшену и так далее. Тупиковость эта выражалась, вероятно, в том, что жанры не вышли очень далеко за рамки определённых времени и места. Так же и NO WAVE в Нью-Йорке рубежа 1970–80-х – этот пласт остался в том времени и месте. Конечно, он может являться точкой отсчёта, но скорее для отдельных музыкантов, чем для новых и куда-либо надвигающихся музыкальных «волн». NO WAVE являлся антитезой NEW WAVE потому что – если я правильно понимаю – NEW WAVE был мэйнстримовой «повесткой дня» в музыкальной прессе, в хит-парадах, которые так или иначе приходилось иметь в виду из-за технически ограниченного информационного потока. Сейчас этот поток почти никак не ограничен. Вот я, например, являюсь барабанщиком групп АЭРОГЛИФ и НЕБОСЛОВ, которые являются резидентами клуба АРТ’ЭРИА. Этот клуб, например, месяц назад провёл фестиваль ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА в парке Красная Пресня. Этот фестиваль не является антитезой фестивалю БОЛЬ или какому-либо другому фестивалю. Он сам по себе, со своей концепцией, со своим набором участников. Фестиваль ПУСТЫЕ ХОЛМЫ не являлся антитезой ПИКНИКУ АФИШИ. И так далее. Сейчас, мне кажется, некому являться антитезой – даже у людей, играющих в одной группе, может быть разный информационный поток перед глазами. Таким образом, если музыканты, вдохновляющиеся эстетикой NO WAVE, или, допустим, формейшена, станут заявлять во всеуслышание, что они представляют собой антитезу чему-либо, то они рискуют обмануться в размахе всеуслышания.

И.С.: Следующий вопрос! Твой свежий проект – перевод книг с целью выкладывания их на площадке РИДЕРО. Вышло уже четыре штуки. Ты доволен результатом? Планируешь продолжать? Что в планах?
А.У.: Да, вышел небольшой новый трактат Боба Блэка МИФ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, первые две части большого труда Ласло Мохой-Надя ВИДЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ, а также пьеса нашего знакомого Грейла Маркуса ИСТОРИОГРАФ: КАБАРЕ ВОЛЬТЕР. Как активный читатель Блэка я считаю, что его новые тексты, скажем, последних лет пятнадцати, оказываются гораздо сильнее, чем то, что у нас (и не только у нас) считается классикой. Его первый гилейский сборник АНАРХИЗМ И ДРУГИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ АНАРХИИ был составлен из текстов 1980-х и 1990-х годов – в середине 2000-х у нас эти идеи и мысли могли показаться прорывом, хотя за рубежом они давно отшумели. С годами Блэк как автор только крепчает – и остроумием, и широтой кругозора, и, конечно же, своей беспощадной критикой. МИФ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, я думаю, является тому примером. В ближайшее время я бы хотел ещё закончить перевод другого его недавнего текста – большого ПОСЛЕСЛОВИЯ К «УПРАЗДНЕНИЮ РАБОТЫ». Тему работы в современном мире, а также в истории человечества (с точки зрения антропологии), Блэк не бросает на протяжении почти сорока лет: первые намётки знаменитого эссе 1985 года появились уже в начале 1980-х. ПОСЛЕСЛОВИЕ суммирует его наработки за прошедшие годы изучения и осмысления этого печального феномена нашей жизни.

Боб Блэк на учёном форуме в Мадриде (ноябрь 2017 г.)
Единственное, что омрачает общение с Блэком, – его здоровье. В последний год он очень плохо себя чувствует, болеет разными возрастными и не только болезнями, постоянно ослаблен, плохо переносит непогоду, лекарства дают побочные эффекты, диагнозы подчас туманны. Но эмоционально он держится молодцом и не отступает от своих сатирических принципов в адрес недоброжелателей. Говорит, что в России его книг издаётся столько же, сколько и в Америке, так что он ценит своих немногочисленных читателей.
Что касается ВИДЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ, то, как я уже упомянул, его автора – Ласло Мохой-Надя я узнал из книжки про МАЗАФАКЕРОВ. Это был выдающийся художник, фотограф, режиссёр, педагог. В 1920-е годы он преподавал в художественной школе БАУХАУЗ (чьё столетие в этом году отмечает весь просвещённый художественный мир). В 1930–40-е он преподавал в США в основанном им Институте дизайна. ВИДЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ – это самое популярное учебное пособие для дизайнеров второй половины ХХ века. Конструктивистские идеи обрели вторую жизнь в бурную эпоху 1960-х (отсюда интерес к ним у МАЗАФАКЕРОВ; см. также ситуационистские идеи обустройства и использования окружающего пространства), откуда (интеллектуально) родом также Стив Джобс, например, чьё инженерное и дизайнерское ВИДЕНИЕ в современном мире трудно переоценить. Я давно уже хочу перевести эту книгу, буду выпускать по частям самостоятельно, потому что те издательства (ранее издавшие другие книги Мохой-Надя), куда я предлагал эту работу, ещё не созрели для такого большого проекта – поэтому я пробую РИДЕРО, откуда есть выход на другие электронные площадки для распространения текстов.

Ласло Мохой-Надь преподаёт в Институте дизайна в Чикаго (первая половина 1940-х гг.)
Ну, и наконец, третья публикация – уже поднадоевший нам Грейл Маркус. Это его фантасмагорическая пьеса ИСТОРИОГРАФ: КАБАРЕ ВОЛЬТЕР, которую он написал, работая над СЛЕДАМИ ПОМАДЫ и под впечатлением от поездки в Цюрих в 1983 году в поисках следов дадаистской ауры. Можно было бы сказать, что эта пьеса по мотивам будущей книги или «рабочая» пьеса, типа разминки, но нет! В пояснении к сноскам Маркус пишет, что вся его огромная книга сама является примечанием к ИСТОРИОГРАФУ – потому что именно в пьесе ему удалось в художественной форме выразить идею, которая занимала его все 1980-е. Половину публикации составляет библиография с историко-культурными комментариями – рай для любителей списков, тем более что множество фактов и баек не вошло в соответствующий раздел с библиографией в СЛЕДАХ ПОМАДЫ. И это не какая-то туфта – знаменитая книга Маркуса ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД с каждым новым изданием прибавляет в весе из-за дополнений в разделе библиографии/дискографии. Основной текст 1975 года остаётся прежним (Элвис по-прежнему жив и упоминается в настоящем времени), но справочные материалы обновляются и актуализируются на сегодняшний день. Так произошло и в гилейском издании СЛЕДОВ ПОМАДЫ, так есть и в замечательном к нему дополнении – пьесе ИСТОРИОГРАФ.
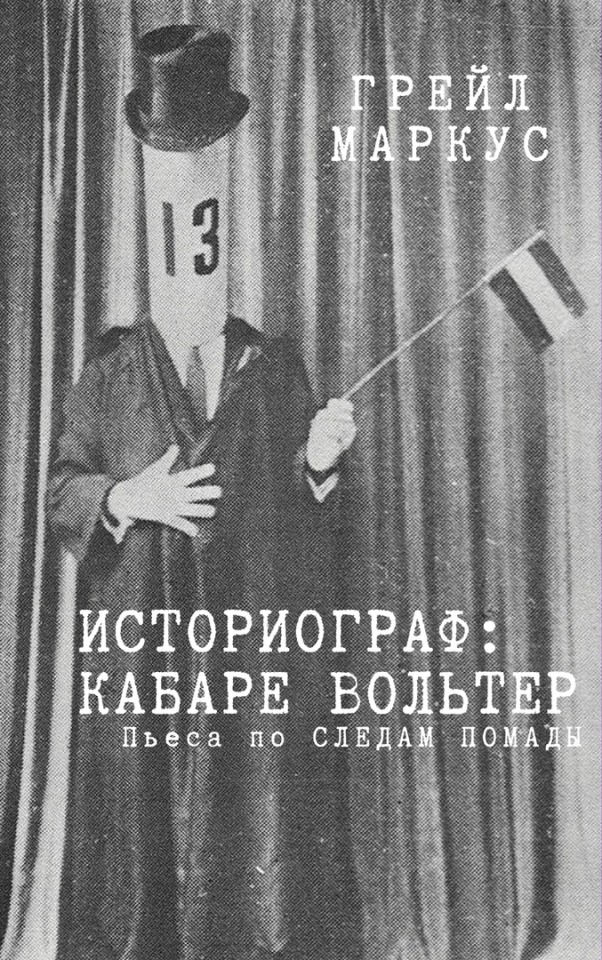
Доволен ли я результатом? Процесс и есть результат, как говорит Дженезис Пи-Орридж. Главное – быть довольным своим собственным отношением к этому делу. Деньги и внимание издателей/читателей приходят и уходят, а за самостоятельно взятый на себя и выполненный труд не должно быть стыдно.
И.С.: И расскажи ещё, пожалуйста, про свою музыкальную деятельность. В каких проектах ты участвовал (и пару слов о них самих)?
А.У.: Вместо долгого перечисления и многих пар слов лучше показать одну картинку – это афиша концерта, куда я позвал группы, в которых я когда-либо участвовал на тот момент (2011 год). Там как раз видны их характеристики. Надеюсь, читатель оценит иронию и общий анти-пафос мероприятия. После того концерта к списку ещё добавились ПРОИСШЕСТВИЕ, НЕБОСЛОВ, ЧАСТИ ЦЕЛОГО и ЛЕНИНА ПАКЕТ. В настоящее время я в основном выступаю с НЕБОСЛОВОМ, АЭРОГЛИФОМ и ЛП. Хорошие группы, с яркими и талантливыми авторами-вокалистами.
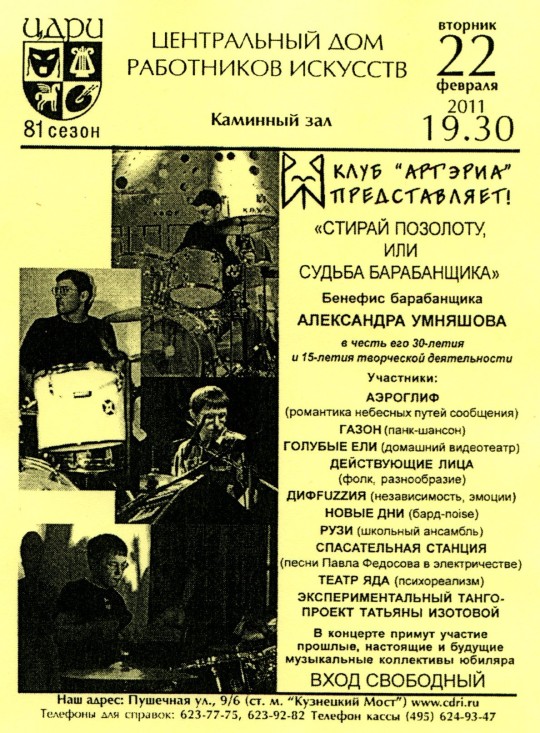
И.С.: А про ТЕАТР ЯДА можно подробнее? Твои взаимоотношения с Никитиным, плюс – с чего стоит начать ознакомление с группой, какие записи и источники посоветуешь?
А.У.: Хм… Отношения с Яном Никитиным у меня были, в общем-то, как обычно бывает в группах, где я участвую – дружеские и творческие. Эпитеты ЯРКИЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ, ОСОБЕННЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ, ГЕНИАЛЬНЫЙ и прочие такие можно применить ко всем авторам-вокалист[к]ам групп, где я участвовал/участвую, и в то же время они мало что сообщают по сути. ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ не загонишь человека слушать ни МОЦАРТА, ни ТЕАТР ЯДА, ни ЛЕНИНА ПАКЕТ. Для всякой музыки (литературы/кино/живописи) нужна особенная к ней склонность.

На концерте ТЕАТРА ЯДА (октябрь 2011 г.)
А если посоветовать насчёт ТЯ – ознакомление, записи, источники – так ведь на ЛУКОШКЕ уже был такой материал – он не утратил актуальности. Плюс, если кого-то вдруг заинтересует моё отдельное развёрнутое мнение, то могу предложить вниманию свои недавние размышления по поводу поэзии Яна Никитина и воздействия на меня музыки ТЕАТРА ЯДА.
И.С.: И под конец можно поподробнее зафиксировать про ЛЕНИНА ПАКЕТ? В скольких концертах ты участвовал? Какие у тебя общие впечатления? Какие концерты наиболее запомнились?
А.У.: Ну, концертов с ЛП у меня, начиная с 2015 года, было штук пятнадцать. Большая часть из них были довольно весёлые. В 2015-м было круто, потому что на сцене находилось много людей – по мне так чем больше, тем лучше (в данном случае). Помнится, самый первый – в ДОЖДЬ-МАЖОРЕ, потом ещё в ДИЧЕ был угар с полным составом. FURFUR-ЗАМЕС был отличный в клубе СМЕНА. Выезды в Питер всегда на ура проходили. Но и недавний гиг в РЮМОЧНОЙ ЗЮЗИНО не подкачал. Общие впечатления? Ну а какие могут быть впечатления от дружеских и творческих отношений с яркими и талантливыми музыкантами? Самые положительные! Единственный минус в непостоянстве живого состава – сложность в изучении нового концертного материала, потому что последние записи ЛП очень даже неплохи, и многие композиции заслуживают большего внимания у публики (и у артистов) на живых выступлениях. На этот момент, мне кажется, стоит обратить внимание.

На концерте ЛЕНИНА ПАКЕТ (январь 2015 г.)
5 notes
·
View notes
Text
Отрывок из романа КГБ-РОК Владимира Козлова
Владимир Козлов прислал нам для публикации фрагмент из своего нового романа, который выйдет из печати уже завтра! Чтобы было ясно, что к чему, скопируем описание: “В новом романе автор проливает свет на малоизвестные реалии советского общества начала восьмидесятых годов. Студенты ВГИКа зарабатывают на жизнь съёмками порно. На Пушкинской площади проходит манифестация фашистов. Общественный резонанс вынуждает КГБ взяться за дело. По ходу расследования вскрываются неожиданные социальные связи…”
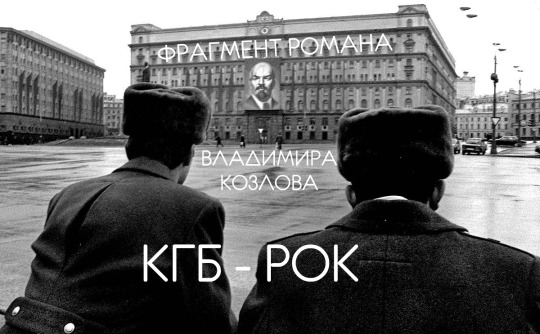
– Хочу, чтобы вы поняли идею, – сказал Борис – лет сорока, стриженный налысо, в черном костюме и черной рубашке. – Я в фарце с семидесятого года. Мне надоела эта мышиная возня. Купи, продай. Я заработал уже достаточно денег, поверьте мне. Но я не могу их «светить», потому что если, например, я куплю «Мерседес», меня сразу возьмут за жопу. ОБХСС и тэ дэ и тэ пэ. И раз я не могу «светить» свои деньги, то я хотя бы хочу делать что-нибудь интересное. Ну и, конечно, зарабатывать. А интересно мне только то, на чем можно зарабатывать.
Стас и Антон сидели за столом напротив. В баре гостиницы «Интурист» было пусто. У полированной стойки из темного дерева курили две девушки. Перед ними стояли коктейли с соломинками. Крутились бобины магнитофона. Из колонок звучал джаз. На полке над магнитофоном стояли рядами бутылки импортного алкоголя с разноцветными этикетками.
Подошел официант, поставил на столик три банки пива Carlsberg, ушел. Борис взял банку, поддел кольцо, открыл, сделал глоток. Стас и Антон, повозившись, открыли свои.
– Вообще, я люблю кино, – сказал Борис. – Брюса Ли люблю. «Эммануэль» и тому подобное. И порно тоже люблю посмотреть, если хорошее. Для меня признак хорошего порно – это что? Это когда постоянно встает. Но хорошее порно не я один люблю, поверьте мне. Знаю по своим клиентам, которым сдаю кассеты из Бундаса, – Борис взял банку, отпил. – Есть один клиент – член Политбюро. Фамилию по понятным причинам не назову. Тем более, я с ним не напрямую контачу, а через посредника. Ну так вот. У него, естественно, давно не стоит, но порнушку он любит. Все новые фильмы берет у меня. А еще любит заказывать девочек – не в кабинет, конечно, а на дачу. Чтобы они раздевались, смотрели с ним порнушку, ссали в цветочные горшки – и тэ дэ и тэ пэ, – Борис одним долгим глотком допил пиво, смял банку, бросил на стол. – То, что вы написали, мне нравится. Будем делать кино.
Борис крутнул на столе жестянку из-под пива.
– Насчет, так сказать, актеров, – сказал он. – Можем взять проституток. Работа для них знакомая. А чуваков – лимитчиков из общаг. Девкам заплатим, а чуваки бесплатно будут играть – за удовольствие.
Стас покачал головой.
– Проституток – нежелательно. Одно дело трахаться за деньги со всеми, и совсем другое – делать это так, чтобы со стороны выглядело красиво. Плюс в фильме же не один только секс, надо будет еще и реплики говорить. Мы с ними намучаемся.
– И что ты предлагаешь? – Борис глянул на официанта, щелкнул пальцами, показал на пивную жестянку. Официант кивнул.
– Студенток ВГИКа, – сказал Стас. – Студенток и выпускниц – которые сидят без работы. Они все сделают гораздо качественнее и достовернее.
– А согласятся? Лица же будут засвечены. Это проституткам насрать, а эти ведь могут и заартачиться…
– Согласятся. Не все, конечно, но кто-то согласится. Если деньги нормальные. И если сразу будет сказано, что для Бундаса, что у нас фильм никто не увидит.
– Ну, кое-кто и у нас увидит, – сказал Борис. – Но им это знать не надо, правильно?
Подошел официант, поставил на стол еще три банки пива.
– А чуваков, может, тоже студентов? – спросил Борис.
*
Злотников раздавил сигарету в пепельнице, посмотрел на Юрченко и Кузьмина.
– Где ваш третий?
– В больнице, – сказал Кузьмин. – Закрытый перелом носа без смещения. Какие-то недоноски отмудохали. Говорит, шел поздно ночью с девушкой с дискотеки, а они пристали...
– Знаю я этих его девушек, – Злотников махнул рукой. – Связывается со всякими шлюхами, ищет приключений на свою жопу. Двадцать пять лет парню – нет, чтобы жениться, детей завести… Зачем, я вас хочу спросить, ему нужны эти бляди?
– Не имей сто рублей, а имей сто блядей, – Кузьмин хмыкнул.
– Дело молодое, – сказал Юрченко. – Можно и погулять, пока есть возможность.
– Коля, а вот этого не надо, – Злотников достал из пачки сигарету. Юрченко и Кузьмин тоже потянулись к своим пачкам. – Он – офицер КГБ СССР, а значит, должен соответствовать. Соблюдать моральный облик. А так, из-за дурной головы и сам в больницу попал, и вам теперь без него придется всю работу тянуть. А работы, я вам скажу, конь не валялся. Почти две недели прошло, и что мы имеем? А я вам скажу, что мы имеем. Хер с маслом. А мне уже Федор капает на мозги. Говорит – к девятому мая хорошо бы все закончить. Раздавить фашистскую гадину ко дню победы над фашизмом… – Злотников затянулся, стряхнул пепел.
Юрченко и Кузьмин молча курили.
– Короче, надо проверить через свою агентуру и доверенных лиц все школы, училища, техникумы, институты. Нас интересуют любые проявления интереса к фашизму и нацизму. Не могли же они взяться из ничего. Вот ты что думаешь, Николай? Можешь говорить начистоту. Это ж в интересах дела.
Юрченко затянулся, посмотрел на Злотникова.
– Возможно, это связано с недовольством определенной группы граждан советским строем. И в качестве точки приложения своего протеста они выбрали нацизм как идеологию, наиболее враждебную коммунизму.
Злотников раздавил сигарету.
– Все это хорошо. Но от этого, я вам скажу, ни жарко ни холодно. Ну, допустим, недовольны. Ну, мало ли кто чем недоволен… Вернее, мы прекрасно знаем, что много кто чем-то недоволен. Кому-то очереди в магазинах не нравятся, дефицит, кто-то квартиру ждет двадцать лет… Но это же не повод протестовать. А здесь не только протест, здесь организованная группа. Где-то они собирались, как-то готовились… Ни хера не понимаю пока… Ладно, работайте. Шестой и девятый отделы тоже привлекли. Занимаются проверкой зарубежной резидентуры и прочего подобного элемента – на случай возможной связи. Но Федор считает, что это маловероятно, и, скорей всего, они отношения к этому не имеют.
*
В палате стояли шесть железных кроватей с закругленными хромированными спинками. Рядом с каждой кроватью – белая тумбочка с отслоившейся краской.
Осипович с повязкой на носу лежал на кровати у окна, читал книгу Мориса Дрюона «Французская волчица. Лилия и лев» в синем переплете.
На тумбочке у его кровати стояла начатая бутылка кефира, прикрытая зеленой крышкой из фольги. Рядом – граненый стакан с засохшими подтеками кефира внутри и алюминиевая столовая ложка.
На соседней кровати спал тощий мужчина. Одеяло в белом застиранном пододеяльнике свесилось на пол. Видны были худые волосатые ноги и красные семейные трусы в горошек.
В палату вошли Юрченко и Кузьмин. Осипович загнул страницу, положил книгу на подоконник. Юрченко и Кузьмин пожали ему руку.
Юрченко сел на табуретку, Кузьмин – на край кровати.
– Ну, чё, выпишешься – и займемся теми пидарасами, правильно? – сказал Кузьмин. – Ты как хочешь – посадить их, или сами решим вопрос?
– Сами решим.
Юрченко молча смотрел в окно – на заводские корпуса и дымящиеся трубы. Мужчина на соседней кровати открыл глаза, почесал нос.
– Что в «конторе» происходит? – спросил Осипович.
– Так, ничего особого, – сказал Юрченко. – Говорят, Федорчука утвердят председателем до конца месяца.
– Э, пацаны, – сказал сосед по кровати. – А правда, что Брежневу недавно грудь расширяли, чтобы все награды повесить? А то так не помещаются? Правда, да?
*
Юрченко и Кузьмин шли по коридору.
В открытую дверь пищеблока видны были две толстые тетки в косынках и грязных фартуках. На столе стояла большая алюминиевая кастрюля, на полу – несколько алюминиевых бидонов.
Одна из теток перемешивала в кастрюле водянистые макароны. Она подняла глаза, посмотрела на Кузьмина.
*
Напротив Лизы за столиком кафе сидела Инна – девушка с волосами до плеч, в фиолетовой кофточке, с ярко накрашенными красной помадой губами. Перед обеими стояли бокалы с коктейлями малинового цвета.
Инна наклонилась, сделала через соломинку глоток из бокала, не дотрагиваясь до него руками. На соломинке остался отпечаток помады.
– Будешь в этом году опять поступать? – спросила Лиза.
Инна тряхнула головой.
– А ты?
– Не знаю пока. Может быть. Но только тогда не в ГИТИС, а во ВГИК.
– Это твой режиссер на тебя повлиял?
– Во-первых, на меня повлиять невозможно, ты это знаешь. А во-вторых, он уже не мой.
– И что это значит?
– У меня с ним все.
– Он тебя бросил?
– Наоборот.
– Из-за того, что все никак не может снять кино?
– Да нет, причем тут это? Я с другим познакомилась.
– И кто он? Тоже режиссер?
– Нет.
– А кто?
– Фашист.
– Ты шутишь.
– Нет, серьезно. У него своя фашистская организация. Они устроили манифестацию в день рождения Гитлера – здесь рядом, на «Пушке».
– Ну ты даешь, подруга, стране угля…
Инна снова наклонилась к коктейлю, отпила. Лиза взяла свой бокал, сделала два глотка через соломинку.
– Кто бы говорил!– Лиза посмотрела на Инну, улыбнулась.
Инна тоже улыбнулась.
– Про фашистов не знаю, конечно, но немцев всяких хватает. И из ГДР, и с Западной Германии, хотя этих, конечно, меньше. Кстати, если что, я тебя всегда смогу пристроить…
– Спасибо, но я предпочитаю только с теми, с кем хочу, понимаешь?
– Понимаю, но не верю, что так возможно.
*
На кровати Стаса сидели две девушки, блондинка и брюнетка. Стас, сидящий на кровати напротив, взял бутылку коньяка, налил.
Девушки и Антон взяли рюмки. Стас поставил бутылку, поднял свою рюмку. Они чокнулись, выпили.
Стас взял бутылку, снова налил.
– Что-то ты гонишь лошадей, – сказала блондинка, посмотрела на остальных. Все уже держали рюмки. Она взяла свою. Парни и девушки снова чокнулись.
– Ну так как насчет нашего предложения? – Стас посмотрел на блондинку.
– Ну, я не знаю… – сказала она. – Но это точно для заграницы? У нас никто не увидит? Ведь если, не дай бог – то это такой позор… И все, никаких ролей, ничего, из комсомола вылетим…
– Никто не увидит, – сказал Антон. – Только бундасовские буржуи.
Брюнетка посмотрела на блондинку.
– Что тут еще думать? Как в общаге давать кому попало, и забесплатно, это – пожалуйста. А тут – сто рублей за день, минимум три дня, да? – Стас кивнул. – Думает еще она!
– Ладно, – сказала блондинка.
1 note
·
View note
Text
Отрывок из книги Александра Бренера КАН-КУН
Не так давно вышла новая книга Александра Бренера КАН-КУН, важная работа. Публикуем не самые характерные отрывки оттуда, они посвящёны человеку из групп ТИККУН и НЕВИДИМЫЙ КОМИТЕТ, чьи книги на русском языке выпускали ГИЛЕЯ и УЛЬТРА.КУЛЬТУРА 2.0. Полагаем, что дополнительные рекомендации будут излишни.
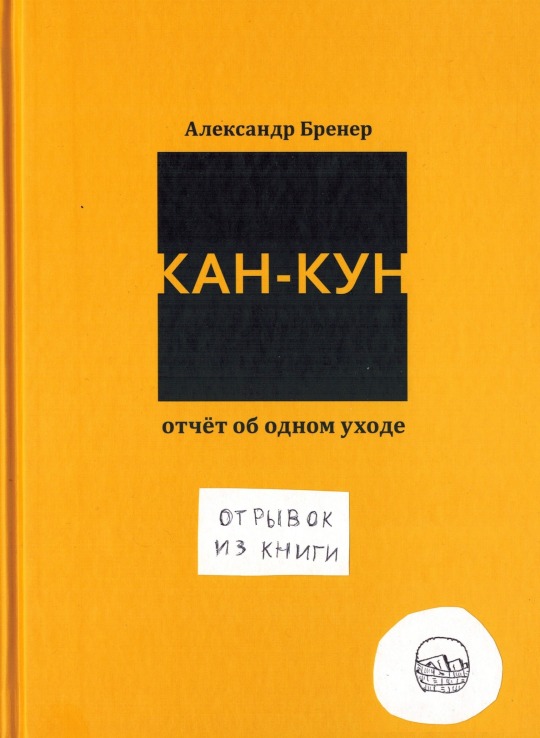
ЧАСТЬ ПЯТАЯ: ПАРИЖ
1
Недавно я видел на улице впавшую в истерику девочку. Она стояла посреди дороги и вопила. Её мать не знала, что делать: то отбегала от неё в ужасе, то возвращалась. А девочка всё кричала и кричала. Её крик не был требованием чего-то. Она забыла обо всём на свете. Вопя, она испарилась, перестала быть собой, исчезла. Совершила метаморфозу: стала криком. Как фигура на картине Мунка. Даже лучше. Потому что девочка не была произведением искусства, а живой метаморфозой.
Метаморфоза — сердцевина всякого бегства, ухода.
После Стамбула мы с Барбарой забыли о сквотах, но по-прежнему перебегали из города в город. И вдруг оказались в Париже. Нас привёл туда «Зов» — текст Тиккун, поэма вызова, призыв к уходу в Воображаемую Партию свободы.
Тиккун — имя журнала и группы французских философов. Они нашли новую поэзию и новые формы жизни. «Тиккун» в переводе с древнееврейского значит: «исправитель испорченного», «проводник», «провожатый».
Проводник чего? Грядущей вести о путях спасения.
Провожатый куда? В Коммуну.
Тиккун знает: Бог умер, общество скончалось, идолы сгнили, города и веси мертвы. Ну и, конечно, искусство. Если Бог умер, почему искусство должно жить? Оно умерло тоже, и ему не воскреснуть.
Тиккун понимает: необходимо не искусство, а зов и вызов. Не слово закона, а инструмент ухода.
Слово, которое не наказывает и не поучает, а открывает и направляет.
Мы прочитали «Зов» и загорелись. И написали по адресу, приложенному к самиздатовской книжке. И получили ответ: нас звали на встречу. Имя звавшего было: Жюльен Купа.
Так мы оказались в Париже.
2
Это был бывший бар недалеко от площади Бастилии, место дружеских встреч и собраний. Тут можно было приготовить еду, помыться под самодельным душем, выспаться в подвале, разыскать нужную книгу в библиотеке. Но главное: найти собеседника и, возможно, друга.
Сюда шли, чтобы встретиться с Жюльеном Купа. Он был магнитом для тех, кто бежал из системы, отказался от интеграции в развалившееся общество и искал путь в Коммуну.
Мы явились туда, еле волоча ноги после бессонной ночи в железнодорожном вагоне. Но Жюльен мгновенно расшевелил нас. Он был интенсивен, как звезда Дзета в созвездии Корма. Есть такой голубой сверхгигант, расположенный на расстоянии около 1090 световых лет от Земли, со свечением в 790000 раз больше, чем Солнце.
Обычно разговоры людей зависят от их настроения, пищеварения, финансового положения, душевного настроя. Словом, от чего-то тёмного, мутного. У Жюльена ничего подобного не было. Никаких миноров и мажоров, ни малейшего конфуза. Он был абсолютно сосредоточен. От его устремлённости к самому главному у вас мгновенно срывало крышу, и вы оказывались под открытым небом.
Мы начали с Агамбена, чья книга лежала рядом. На титульном листе рукой философа значилось: «Моему другу Жюльену».
Да, Жюльен и Агамбен были друзьями.
Я признался ему, что Агамбен — самый важный для меня мыслитель.
Он спросил:
— Какая ваша любимая агамбеновская книга?
— «Профанации», — ответил я.
Эту книгу я прочёл в английском переводе, и она открыла мне глаза на самого себя.
Жюльен покачал головой:
— Слабая книга.
Я был потрясён:
— Почему? Профанации — один из главных концептов Агамбена!
Жюльен не хотел объяснять:
— Всё равно это слабая книга.
И потом:
— Я читаю сейчас Беньямина. Вот оригинальный философ. А Агамбен — землемер, способный отсчитать пять миллиметров до истины, два миллиметра, один… Он всё знает и понимает — это точно.
Мы сидели в комнате, где не было ничего, кроме стола, двух скамеек и стойки бара, на которой высилась горка тарелок. Голое четырёхугольное пространство без малейшего украшательства и без так называемого функционализма. Только вещи, предназначенные для использования, для формыжизни.
Жюльен говорил о Беньямине:
— Вы когда-нибудь думали о его «диалектическом образе»? Вы сказали, что занимались искусством, но больше не хотите. Диалектический образ находится по ту сторону искусства. К искусству нужно относиться, как пролетарии девятнадцатого века: не замечать его вовсе. Диалектический образ позволяет вырваться из мира галерей, бутиков и банков, из этого фальшивого Парижа, где мы с вами находимся. Диалектический образ нужен, чтобы разрушить этот аппарат и открыть иное.
Перед нами сидел человек, способный, как все мы, воскресить в своей памяти множество виденных им картин — всяких, разных. Но он не хотел никаких лишних картин, уводящих в сторону. «Диалектический образ» — вот что ему было нужно: воображаемая идея, способная вырвать тебя из системы контроля и ввести в режим интенсивности, в ритм восстания.
Я спросил его о повстанческом анархизме и работах Альфредо Бонанно.
Он ответил:
— Это слабо. Они думают, что могут обойтись без Фуко, без Делёза. Это ошибка. Без концептов и философских анализов далеко не уедешь.
Жюльен Купа находился на вершине европейской культуры. В юности он прошёл отличную школу, учился у Люка Болтански, написал диссертацию, в которой сравнивал Ги Дебора и Рауля Ванейгема: кто из них был более последователен в своём уходе. Согласно выводу Купа, Дебор вышел из аппаратов, а Ванейгем сотрудничал и колебался.
3
Журнал «Tiqqun» не был единственным начинанием Жюльена. В центральной Франции, в деревне Тарнак, он и его товарищи основали коммуну. Поселившись в крестьянском доме, друзья проводили эксперимент коллективной жизни: огородничали, держали животных, открыли столовую для местных. Это был приют беглецов и точка опоры в борьбе с системой.
Когда мы беседовали с Жюльеном в Париже, имя Купа ничего не говорило широкой публике и масс-медиальным агентам. Но года через два после нашей встречи прогремело «тарнакское дело», ставшее достоянием прессы. В ходе полицейской операции девять членов тарнакской коммуны были арестованы по обвинению в саботаже скоростных поездов и терроризме. Об этой полицейской акции раскричались газеты.
Жюльен просидел в предварительном заключении полгода. Другие — чуть меньше. Прокуроры Саркози старались повесить на тарнакцев всё, что могли: заговор против государства, конспирацию, подготовку к насильственным действиям, анархистское подполье. Но судебное дело провалилось, обвинения в конце концов были сняты. И опять об этом писали газеты.
Жюльен стал знаменит. Работы Тиккун вышли на разных языках в разных странах. Появились публикации, подписанные загадочным «Невидимым Комитетом». К этому Жюльен тоже приложил руку.
В момент нашей встречи анонимность являлась важнейшим элементом стратегии группы Тиккун. Уход из общества означал, кроме прочего, разрыв с аппаратами авторства, репрезентации, признания, успеха. Жюльен не собирался стать ещё одним писателем, культурным авторитетом. Он стремился к неуловимости, неуправляемости, непрозрачности, тайне. Он хотел быть иным — вне подлого информационно-полицейского порядка. Он и был иным — другого состава и вида.
4
Посидев с нами, Жюльен ушёл, но вскоре вернулся с бутылкой превосходного вина, шоколадом, ветчиной и сыром.
— Вы, должно быть, проголодались?
Было радостно смотреть, как он набивает багет кусками шоколада, мясом и ломтиками рокфора.
— Так вкусно, — сказал он и предложил нам проверить.
Люди забывают, что писатель или повар — это прежде всего читатель или едок, преодолевшие чужие рецепты и научившиеся писать и готовить по-своему, как им нужно. Но Жюльен не был ни писателем, ни поваром. Он был мятежником, инсургентом.
— В Париже всё можно взять бесплатно, — улыбнулся он, наливая вино в стаканы.
Скоро мы убедились в его правоте: умеючи, в Париже действительно можно жить без денег.
Но опять же: Жюльен не был вором. Он был мыслителем и стратегом. Он вёл гражданскую войну против капитала, спектакля, контроля, глупости, биополитического порядка. Он противостоял аппаратам власти. И понимал: существу, ушедшему из общества, необходимы многие навыки и умения. Но главное: нужна коммуна.
«Коммуна — это то, что возникает, когда люди находят друг друга, понимают, что с ними происходит, и решают идти вместе. Любая спонтанная забастовка — коммуна, любой дом, оккупированный на ясных основаниях — коммуна».
Цепочка коммун — освободительная инфраструктура. В неё могут входить сквоты, квартиры друзей, деревушки, дома на колёсах, но главное — существа, люди. У Жюльена были товарищи не только во Франции, не только в Европе. Товарищи, инструменты, методы, концепты.
А мы-то с Варькой так и остались сиротами бесприютными, — вроде тех, что на картине Шестёркина. Без друзей, без коммуны. Зато с пятками, готовыми к бегству. И глотками, готовыми к бунту. <…>
8
Коллектив Тиккун выпустил в свет немало великолепных текстов. Среди них «Теория девушки», «Введение в гражданскую войну», «Это не программа», «Теория Блум», «Кибернетическая гипотеза», «Проблема головы». Это освободительная теория наивысшего класса, философские и поэтические открытия, образцы современного революционного мышления во всём его блеске.
Есть у Тиккун и эссе под названием «Тезисы к ужасающему сообществу» — критика косных коммун и активистских сквотов. Речь идёт о таких отколах от общества, когда попытка совместной жизни оборачивается кабалой, рабством. Согласно анализу Тиккун, в сквотах часто воспроизводятся иерархические, подневольные, тягостные модели коллективного существования, характерные для большого общества и его аппаратов. Лёгкость, с которой возникают отношения власти, идеологический догматизм активистов, скрытая и явная враждебность к свободе — всё это было известно авторам «Ужасающего сообщества» изнутри, поэтому их критика убедительна и беспощадна. Атаке подвергается не только идеологический хлам и любоначалие мнимых повстанцев, но и их слабоумие, фальшь, фарисейство.
Вот формула, которой Тиккун определяет суть подобных союзов: «Есть ужасающие сообщества, что сражаются против существующего порядка: они предстают нашему взору более счастливыми, чем всё окружающее. И однако же их способ приближения к истине — и тем самым к радости — удаляет их от свободы дальше, чем что бы то ни было».
Вопрос, возникающий перед всяким, столкнувшимся с «ужасающим сообществом», следующий: выбираю ли я жалкое прозябание в сквоте или неизвестность и риск ухода? Выбираю ли мизерное убежище или тайную и полную опасностей тропинку? Хочу ли остаться в «ужасающем сообществе» или напасть на него во имя Воображаемой Партии свободы?
«Никто не несёт ответственности за место, которое он занимает, — до тех пор, пока не идентифицируется со своей ролью».
Так говорит Тиккун. И зовёт к риску. <…>
10
Встреча с Жюльеном Купа могла бы преподать мне хороший урок. Я говорю «могла бы», ибо всегда прогуливал нужные уроки. Неужели прогулял и этот?
В «Тезисах к ужасающему сообществу» сказано: «необходимо учиться новому искусству дистанций». Вот главный урок Жюльена.
«Ужасающее сообщество — единственная форма сообщества, совместимая с существующим миром, с Блумом. Все другие сообщества — воображаемые, то есть не невозможные, но возможные лишь в отдельные моменты и не способные осуществиться полностью. Они возникают в битвах и являются гетеротопиями, смутными, невыявленными зонами, постоянно требующими оформления и постоянно исчезающими».
Именно: ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА. При всей их летучести и эфемерности только в них можно жить, только они дарят радость и освобождение. Искусство дистанций есть умение маневрировать. С одной стороны, это способность находить друзей в схватках с аппаратами и экстатически творить коммуну. А с другой стороны, это техника отстранения от ложных союзников, ускользание из ловушек власти.
Сквот — не спасение, не выход. Он может оказаться сердцевиной ужасающего сообщества: тюрьмой и ссылкой. Поэтому Тиккун говорит: «И тюрьмы, и освободители должны быть отменены одновременно». Вместо освободителей — диалектический образ, воображение.
«Необходимы практики свободы, а не программы освобождения. Иногда достаточно одного насмешливого взгляда, чтобы ужасающее сообщество сгинуло, как нечистая сила».
Бегство из ужасающего сообщества невозможно без повстанческой ситуации. Подлинное восстание не имеет ничего общего с активистскими ритуалами — демонстрациями, собраниями, ассамблеями, фестивалями. Восстание срывает эти фальшивые мероприятия. Оно исходит из логики парресии — правдивого говорения. Parrhesia — «говорить всё», «говорить свободно», «говорить смело». Как писал Фуко: «Когда вы принимаете парресиастическую игру, в которой ставка — ваша жизнь, то вступаете в особые отношения с собой: рискуете умереть, сказав правду, нежели оставаться в безопасности с правдой невысказанной. Вы предпочитаете стать парресиастом, а не человеком, неискренним с собой». Парресия — опасное, аффективное использование речи, акт правдивого говорения, атакующий отношения власти в дружбе, любви и политике. Ужасающее сообщество как раз потому ужасающе, что скрывает отношения власти внутри себя, подавляет инакомыслие, принуждает своих членов к рабскому молчанию.
Парресия — одна из форм бунта, неповиновения. Но есть и другие, разумеется. Пляска, хохот, физическое вмешательство — воображение должно подсказать нужную в данной ситуации технику восстания.
Практиковать восстание — значит выйти из ужасающего сообщества. Это первый шаг к ВООБРАЖАЕМОЙ ПАРТИИ. Так Тиккун именует силу, атакующую одновременно ужасающее сообщество и биополитическую Империю.
Воображаемая партия есть форма-жизни: группа товарищей, цепочка дружб, любовный союз. Плюс диалектический образ в действии.
***
Материал предоставлен издательством ПОДСНЕЖНИК.
1 note
·
View note
Text
Иван Смех. «История русского кино в 50 фильмах» Михаила Трофименкова
Наш главред Иван Смех уже успел в этом году прочитать одну книгу, так что мы решили заставить его мгновенно написать о ней отзыв – благо, он и сам был не прочь.

Если бы я знакомился с заметками Михаила Трофименкова, выхватывая их из потока информации в интернете, то впечатление у меня бы сложились следующее. Заметки слишком короткие и не особо цельные, так что как стройный и законченный отзыв о фильме даже и не воспринимаются. Пересказ сюжета и набор общих фактов о фильме не представляют никакого интереса – всё это мне уже известно (ведь я бы читал отзывы на те фильмы, которые уже видел, иначе было бы никак не наткнуться). Возможно, несколько интересных замечаний о картине я бы там встретил, но больше находилось бы спорных, а на таком маленьком пространстве спорные замечания особенно режут глаз. Стиль самих заметок я бы охарактеризовал для себя примерно как «дурацкий» – кинокритик общается с читателем как со своим хорошим знакомым, точнее, как с человеком, который хорошо знает самого кинокритика, и поэтому упускает какие-то детали как очевидные для себя – стороннему же читателю восстановить эти упускания нет никакой возможности, для него они как раз неочевидны. В итоге о Михаиле Трофименкове я бы сделал такой общий вывод: очередной человек из толпы безликих посредственных писак, возможно, и обладающих какими-то знаниями в своей области, но не умеющих нормально их преподносить, ловко пристроившихся и тискающих свои заметки в каких-то изданиях средней модности, которые готовы выделять под это место и деньги. Листаю дальше, давайте следующего, да желательно – получше.
Такой вывод оказался бы, пожалуй, безапелляционным, и тем большим удивлением для меня стал бы тот факт, что Михал Трофименков написал некоторым образом КНИГУ МОЕЙ МЕЧТЫ. В том смысле, что о появлениях подобных книг о малоизвестных мне областях культуры я и мечтал – дающих общий обзор пласта под правильным углом зрения, не слишком углубляющихся в конкретные детали, однако, презентующих множество зацепок, с помощью которых дальше можно будет совершать самостоятельное изучение и погружение. Расскажу об этом подробнее.
Трофименков даёт ШИРОКИЙ ОБЗОР, начиная с первого российского фильма, который он сам признаёт полноценной художественной картиной (ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА, 1908) и заканчивая уже весьма свежей работой (ДОМ, 2011) – т.е. более чем вековой период, однако основной упор делает именно на советских фильмах, заходя на территорию дореволюционного и послеразвального кино совсем чуть-чуть. И для обзора этого советского пласта (подчеркну, что я с ним знаком очень мало) он выбирает прямо-таки поразительно верные подходы! Смотрите сами.
Во-первых, он не включает в него самых известных режиссёров, а если и включает, то только неочевидные их работы. Что может быть лучше! Действительно, про известных написано уже столько, что тут легче было бы обращаться к другим источникам, да к тому же они переходят в разряд неких очевидностей, про которые достаточно знаешь в любом случае, и куда интереснее почитать о различных потрясающих редкостях и прекрасных неожиданностях.
Во-вторых, он анализирует фильмы не как идеологические высказывания, а просто показывает, что НОВОГО они внесли в кинематограф, почему они были прорывными и необычными для своего времени и чем не вписывались в шаблонные правила игры. Тут уж не стоит пояснять, почему именно такой подход мне кажется восхитительным. Трофименков, конечно, заявляет о новаторстве не голословно, но даёт некий контекст, рассказывая об особенностях кинопроцесса или политической ситуации времени, в которое был снят фильм, несколько затрагивая сюжет, уже на этом месте (а не на первом) оценивая идеологическое содержание, а также выдавая яркие факты из биографий создателей картин – режиссёров, сценаристов, актёров. То, что не работало бы с точки зрения читателя в рецензии на известный ему отсмотренный (и, вероятно, свежий) фильм – тут начинает работать, да ещё как! Азарт и восторг почти в каждом случае передаётся воспринимающему, и возникает желание посмотреть самостоятельно почти каждый фильм. Да и вообще, перемещение фокуса с идеологии картины на её истинно художественные качества в случае именно с СОВЕТСКИМ кино и отказ от разделения на более ОФИЦИОЗНЫЕ или более ПРОТЕСТНЫЕ работы – это очень мудрый ход, который хотя и можно встретить сейчас, но общим местом он всё ещё не стал.
В-третьих (хотя это уже менее значительная, но крайне приятная деталь), Трофименков не начинает выдавать неуместной узости мысли и попыток строжайшего следования названию книги, но разбирает также грузинские, белорусские, украинские, прибалтийские фильмы – ведь, конечно, в рамках рассматриваемого периода они существовали в одной упряжке и одном контексте, а на их необычности и новаторстве культурные традиции авторов сказывались чаще в положительном ключе! Надо сказать, что и сейчас фильмы из стран, имеющих общую историю, оказывается продуктивным рассматривать рядом. Даже если они не имеют теперь ничего общего между собой, то это будет ИНТЕРЕСНОЕ ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕГО, показывающее, каким образом национальные киношколы шли по самобытному пути. Сам я так и анализировал, скажем, эстонский фильм КЛАСС (2007) о школьной стрельбе, или же финляндскую супергеройскую кинокартину РЕНДЕЛЬ (2017).
В-четвёртых, Трофименков в первую очередь рассматривает фильм как работу режиссёра и даже не приводит пол��ой и зачастую излишней «энциклопедической» информации об остальных участниках процесса, которая легко находится в интернете, а в книгах такого рода (хотя и не всегда) занимает лишнее место. Этот подход кажется совершенно очевидным, но не стоит забывать, что ещё существуют люди, которые смотрят кинофильмы исключительно из-за актрис или актёров, даже не запоминая фамилии снявших их режиссёров (впрочем, тут я скорее не прав – АКТЁРСКИЙ подход встречается среди любителей поп-поделок, ведь режиссёры этого пласта и правда безлики, но когда речь идёт о нормальном искусстве, обладающем художественной ценностью, такое обнаруживается совсем уж редко).
В-пятых, Трофименков каждую статью снабжает обширным эпиграфом, взятым из мемуаров, поэзии или художественной литературы. Этот приём позволяет ему либо обозначить контекст, в котором создавался фильм, либо же провести занятную параллель, иногда оказывающуюся удачной, неожиданной и убедительной – например, между РОССИЕЙ, КРОВЬЮ УМЫТОЙ Артёма Весёлого и ОКРАИНОЙ Луцика.
Единственным слабым и алогичным местом подхода Трофименкова оказывается отказ от хронологического расположения картин внутри книги. Сам он утверждает, что такое решение было принципиальным, потому что «это не учебник, а книга для человека, для которого все фильмы словно сняты в ту минуту, когда он их смотрит, а все режиссёры – его современники, беседующие с ним и друг с другом поверх пространственно-временных барьеров». После чего Трофименков сразу же, что называется, ВКЛЮЧАЕТ ЗАДНЮЮ и заявляет: «но опрокидывать кинокосм в хаос я тоже не стремился», и поясняет, что сохраняет хронологию не ВООБЩЕ, но только в рамках каждой части, коих три, и каждая соответствует одному ТИПАЖУ интересных по его мнению фильмов. Градации таковы: фильмы, которые были первыми в своём жанре, фильмы, которые в рамках существующих жанров смогли сломать шаблоны, и маргинальные фильмы, являющиеся необычными высказываниями, не имеющие аналогов. Деление выглядит произвольным и маловажным – если фильмы замечательны, то разве так уж принципиально, к какому из этих типов они относятся? При том, что каждый из типов, конечно, отвечает тому критерию, что даёт зрителю что-то НОВОЕ, и, следовательно, по определению является интересным и художественно ценным. Такое ощущение, что это деление интересно автору, но он так и не смог объяснить, чем именно, и отказ от хронологии всё равно выглядит странно, да и сам материал книги этому сопротивляется – ведь для каждой кинокартины указывается сбоку ещё несколько фильмов, выпущенных в тот же год! Но если «все фильмы сняты словно в ту минуту, когда зритель их смотрит», то разве не логичнее было бы давать в этих сносках просто ПОХОЖИЕ фильмы? Да что угодно, помимо фильмов, снятых в тот же год! Сама ПОЛУМЕРА по отказу от хронологии выглядит неестественной ещё на стадии объяснения (в предисловии). Чтение книги этот подход затрудняет в совсем незначительной мере (раз уж внутри каждого из трёх разделов хронологический порядок сохраняется), но кажется, что если само ДЕЛЕНИЕ для Трифименкова столь уж важно, то естественнее было бы выдумать некие обозначения для каждой из трёх категорий фильмов, а затем просто указывать категорию рядом с названием кинополотна, оставив полное хронологическое расположение в рамках всей книги.
Ну вот, это-то следование пяти указанным положительным подходам (прежде всего, конечно, первым двум), а также широчайший багаж знаний не только фильмов, но и сопутствующей информации, позволило Михаилу Трофименкову написать книгу МОЕЙ МЕЧТЫ. Эти подходы кажутся мне настолько логичными, естественными и необходимыми, что я сам пришёл к ним ранее и реализовывал по мере сил в своих отдельных статьях, а в полную силу планирую реализовать, когда через пару лет соберусь писать свою ИСТОРИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – и счёл настоящим чудом и счастьем, что встретил их у другого человека. Благодаря этому по прочтении книги я убедился, что отечественное кино – это не скучная официозная идеологическая махина по пропаганде сформулированных и заранее известных идей, но совершенно самобытный, клокочущий живой энергией организм, дающий множество прелестных находок; не обособленная и отсталая область, но крайне актуальная, новаторская и пробивная область культуры – не только в отечественном, но и в общемировом контексте. Любовь Трофименова к отечественному кино передалась мне в полной мере! А книга оказывается, конечно, не исчерпывающим путеводителем по этому миру, но идеальным введением в него! Низкий поклончик автору! Теперь ещё ждём таких же экскурсов от других людей в другие замечательные образы отечественной или всемирной культуры!
Под конец всё-таки ещё отмечу пару слабостей автора, совершенно не влияющих на ОБЩЕЕ восприятие книги. Понимаю, что вставлять их в конце статьи плохо и неправильно, ведь они могут оставить некий ОСАДОК, раз за ними последнее слово – но впихнуть их в вышеидущее тело заметки не представилось мне возможным, как и умолчать о них. Заранее извиняюсь за этот ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЛОХОЙ ХОД.
Первое. Отмеченные в самом начале огрехи стиля авторского текста – когда он опускает кажущиеся ему очевидными вещи, совершенно неочевидные для читателя – никуда не делись, и порой режут глаз, но уже в незначительной мере, стираясь на фоне сильных сторон книги. Второе. Огорчило, что при рассмотрении современных российских фильмов в качестве эпиграфов Трофименков выбрал строки из таких авторов: Кровосток, Всеволод Емелин, Лёха Никонов – т.е. идеально встраивающихся в некий ряд «поп-культуры для интеллигенции». Ну разве нельзя было заменить Никонова на СОЛОМЕННЫХ ЕНОТОВ (более глубокий первоисточник), Всеволода Емелина на Андрея Жильцова (более глубокие и мощные стихи на тему алкоголизма), а группу Кровосток с их «Снайпером»... ну, хоть на КИЛЛЕРА от занятной олдскул-рэп группы 7.62? Почему люди, с наипохвальнейшей глубиной разбирающиеся в какой-то области культуры, в других областях проявляют такую гнетущую недалёкость? Постоянно с таким сталкиваюсь и неизменно печалюсь!
П.С. Ну и совсем последнее – оно уже относится к изданию книги. Вопреки традиции, при которой, взяв в руки книгу, ты чувствуешь душевный запах типографской краски, от этой исходил разящий, неприятный и химический. Через два часа чтения начинало поламывать голову – и выходило, что издатели неосознанно продолжили авангардный ход Ги Дебора и Асгера Йорна, издавших свои мемуары с обложкой из наждачной бумаги – чтобы книгу невозможно было поставить на полку! Эта забавная аналогия позволила мне претерпевать дискомфорт с ухмылкой на устах.
9 notes
·
View notes
Text
Владимир КОЗЛОВ. Лето Любви
<материал удалён по просьбе автора>
15 notes
·
View notes
Text
Иван СМЕХ. Как memes стали свободными
В первый раз мы даём осечку и публикуем статью не о культуре, но о ПОП-КУЛЬТУРЕ. И то лишь потому, что её автор — Иван СМЕХ. Статья хороша, а содержание понятно из названия.
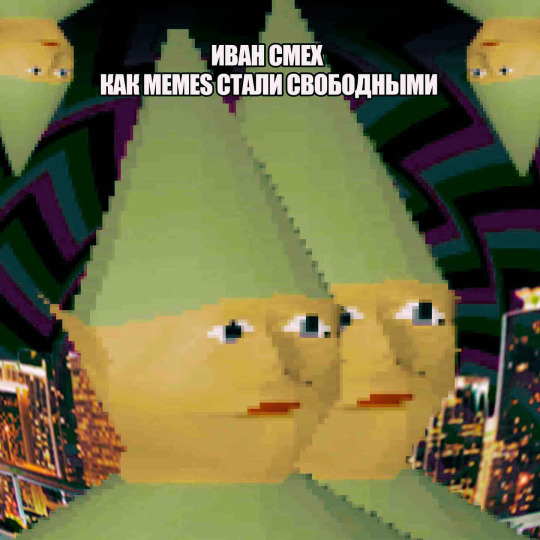
КАК MEMES СТАЛИ СВОБОДНЫМИ
1. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ MEMES
Если искать ближайший аналог к слову memes на русском языке, то это будет что-то в духе ЗАБАВНАЯ КАРТИНКА. Подробно раскапывать историю забавных картинок, находить их предшественников – дело довольно глупое, каждому и так с лёгкостью вспомнится что-то из давних времён, будь то русские народные лубки, сколь угодно старые газетные карикатуры или дружеские шаржи классических писателей, советские агитационные плакаты с комичными буржуями и проч. Наверняка нечто подобное memes можно будет найти даже среди артефактов античности и средневековья – было бы желание.
Вместо этого формалистского подхода я предлагаю рассмотреть два предшествующих memes явления, проливающих свет на их суть и позволяющих понять некоторые их особенности. Этими явлениями окажутся советские анекдоты и détournement.
1.1. АНЕКДОТЫ
Анекдоты появились задолго до революции, например, я с лёгкостью нашел книгу 1774 года, в которой анекдоты не только упоминаются, но и осуждаются, «ибо часто повѣствуемые многіе анекдоты не токмо просвѣщаютъ, но и затемняютъ исторію». Из этой же цитаты видно, что под анекдотами тут понимались ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ, набор забавных баек о каком-то реальном историческом лице. Лёгкий поиск покажет, что их происхождение много древнее, но понимались ��ни и тысячелетия назад именно в этом смысле. Опять не то!
Перенесёмся вперёд, ��о времена брежневского СССР. Особенности анекдотов этого периода удачно описаны в книге А. Юрчака ЭТО БЫЛО НАВСЕГДА, ПОКА НЕ КОНЧИЛОСЬ, и именно приведённый им анализ в какой-то мере вдохновил меня на настоящую статью. Ключевой фактор – анекдоты тогда стали рассказываться пачками, подряд и безостановочно; заканчивая один анекдот, человек переходил к следующим, и это становилось приятным самостоятельным времяпровождением:
«Период позднего социализма отличался от всех этих других периодов тем, что именно на него с середины 1960-х по конец 1980-х пришелся настоящий бум этого жанра. В то время не только резко возросло общее количество анекдотов, но возник и широко распространился новый ритуал рассказывания большого количества анекдотов, одного за другим, часто несколькими людьми. Этого ритуала как повсеместного явления ни до, но после периода позднего социализма не было. На сленге позднесоветский ритуал рассказывания анекдотов получил название «травить анекдоты». Не менее важной особенностью этого ритуала была его абсолютная повсеместность — в те годы было практически невозможно существовать в Советском Союзе, не сталкиваясь постоянно с рассказыванием большого числа анекдотов и не участвуя в нем».
А вот это уже полностью проецируется на memes, ведь наиболее даровитые их любители иной раз спокойно могут просидеть два-три часа, просто щёлкая одну картинку за другой, за раз просматривая до нескольких тысяч потешек, были бы достойные источники.
Другая характерная особенность анекдотов – их серийность. Серии анекдотов про условных «грузина, русского и американца», про Петьку и Чапаева, про Штирлица содержали десятки или сотни единиц и могли постоянно пополняться. Эта шаблонность была и раньше, в исторических анекдотах (про шута Балакирева, писателя Сумарокова и проч.), но тут всё-таки проявилась с большей очевидностью, и она же перешла к memes, где один и тот же шаблон или персонаж используется сотни раз, что будет на примерах разобрано ниже.
Такая ПОТОЧНОСТЬ могла и раньше присутствовать в избранных случаях – например, в альбомах авторских карикатур, вспомнить хотя бы издание великого русского футуриста Алексея Кручёных «Весь Херсон в карикатурах, шаржах и портретах». Но его альбом просматривался значительно быстрее, чем альбом в вк на 5000 memes, и такие альбомы шаржей не разглядывались один за другим.
1.2. DÉTOURNEMENT
Когда мы с товарищем по группе открывали свой мем-паблик для особенных людей, в раздел ИНФОРМАЦИЯ мы поместили такую цитату:
«Memes ведут не только к открытию новых граней таланта, но и к лобовому столкновению со всеми правовыми и социальными условностями; они не могут не оказаться мощным культурным оружием на службе реальной классовой борьбы. Дешевизна производства делает memes тяжелой артиллерией, которая пробивает Китайскую стену разума. Они являются реальным средством пролетарского эстетического воспитания, первым шагом к цифровому коммунизму».
И подпись – ГИ ДЕБОР. Цитата была несколько переиначена, в исходнике на месте слова memes стояло именно слово détournement, в остальном автором действительно являлся Ги Дебор. Его манифест стоило бы прочитать целиком (МЕТОДИКА DÉTOURNEMENT, 1956 год; там он описывает куда более широкий подход, проецируя его на самые различные области искусства и повседневности; историческая справедливость требует отметить, что статью Дебор написал не один, но в соавторстве с корешем), но суть в том, что он рассказал о методике, которая станет универсальным подходом для создания новых произведений. С помощью коллажа новое творчество будет слепляться из кусков старого, при этом смысл оригиналов тут будет полностью переиначиваться, и вообще – исходные вещи теряют былую значимость и становятся материалом. Дебор считал, что обессмысливание оригинала важно само по себе, поэтому часть методики – это не пародирование исходника, но стирание его. Важно тут и то, что с помощью détournement творцом сможет стать каждый, ведь за содручные материалы не придётся платить, авторское право на них обесценится – поэтому слово ДЕШЕВИЗНА и присутствует в вышеприведённой цитате. Осмысленное применение указанных методик, по Дебору, может быть удачно использовано для антикапиталистической пропаганды.
Веря в глобальную социальную значимость своих идей, Дебор, конечно, облажался не меньше, чем его печальная французская революция 1968 года – когда его методики стали использоваться на практике, революционный потенциал их оказался ничтожнен. Общество оказалось готовым принять их, рационализировать, обезвредить и сделать частью себя, а принижение оригинала в рамках memes на практике нисколько не обесценивает его. Но формалистская часть его описания оказалась пророческой – он предсказал не просто появление memes, но и результат их определённой эволюции, о чём будет сказано ниже. А пока ещё одно высказывание из статьи, доказывающее, что он говорил именно о memes:
«Любые элементы, независимо от того, что является их источником, могут быть использованы для создания новых комбинаций. <...> Слияние двух чувственных миров или объединение двух независимых выражений вытесняет оригинальные элементы и производит синтетическую организацию большей эффективности. Использовать можно всё что угодно. Очевидно, что творец не ограничен лишь исправлением работы или сборкой разнообразных фрагментов устаревших работ в новое произведе��ие; позволено также изменять значение этих фрагментов любым способом, оставляя идиотам рабское корпение над "цитированием"».
2. СТАНОВЛЕНИЕ MEMES
Для того, чтобы memes обрели сегодняшний вид, нужно было пройти долгий путь. Чтобы их семена дали полный рост, необходима была подходящая социально-цифровая среда. Если одна из особенностей memes – их ПОТОЧНОСТЬ (по аналогии с анекдотами), то где же было взять подходящие площадки в интернете начала нулевых? Люди сидели на форумах, переписывались в ICQ и по электронной почте, писали в ЖЖ и посещали отдельные сайты. Посмотреть несколько тысяч картинок за пару часов просто не было технической возможности.
Первые memes появлялись как разрозненные элементы, придерживающиеся строгой формы. Например, комиксы-стрипы, которые раньше могли бы быть опубликованы и в газетах. Таковы были серии комиксов ЦИАНДИД И СЧАСТЬЕ или же ЗАЯЦ ПЦ И ЕГО ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ Линор Горалик. Другой пример – серии «фотожаб». После того, как отдельная картинка выстреливала, люди «расчехляли фотошоп» и обыгрывали её в самых разных контекстах. Это могло относиться как к отдельным картинкам, которые скоро забывались, так и к долгоживущим – ПРЕВЕД МЕДВЕД или СВИДЕТЕЛЬ ИЗ ФРЯЗИНО. Что немаловажно, ПРЕВЕД МЕДВЕД тогда не мог существовать только как серия мемов, он потащил за собой как багаж переиначивание языка (близкое к т.н. ЯЗЫКУ ПАДОНКАФ, но существующее по несколько иным, более простым законам). Ещё одна возможность серийных картинок – это ЗАБАВНЫЕ СХОДСТВА, когда два известных человека оказывались визуально похожими. Самый популярный пример из этих времён – сходство Дмитрия Медведева и Бойда Райса. Ну и, конечно, отдельные наборы различных забавных фотокарточек, типа шаурменной с перевёрнутым логотипом МАКДОНАЛЬДСА на вывеске. Такие узкие серии порой выкладывались на определённых площадках по 10-20 и даже более экземпляров, но помимо этих серий почти ничего и не существовало.
Пока не появились ДЕМОТИВАТОРЫ. Они пришли с имиджборд, технически уже куда более подходящих для бесконечного просмотра картинок. Демотиватор обладал строгим шаблоном, который авторы не брались нарушать – картинка, чёрная рамка вокруг неё, и две подписи снизу – большим и меньшим шрифтом. Я это проговариваю не потому, что это вам неизвестно, но чтобы осознанно подчеркнуть их жёсткую ШАБЛОННОСТЬ. Впрочем, даже с учётом этих ограничений, простор фантазии уже мог развернуться широчайшим образом, и уже тут начал проявляться détournement – подпись могла быть нисколько не связана с картинкой, или же переиначивать её смысл самым неожиданным образом.
Демотиваторы перестали быть элитарным развлечением и оказались достоянием масс примерно вместе с появлением ВКОНТАКТЕ, где была реализована возможность создавать альбомы, содержащие исключительно memes. Форма демотиваторов тогда стала крайне популярной, и её начали подстраивать под любые нужды – от самых безобидных и невзрачных, до достаточно радикальных шуток. И эта форма сохранялась очень долго – даже когда ушла ЧЁРНАЯ РАМКА вокруг картинки, то многочисленные генераторы memes онлайн предлагали пользователю ЗАГРУЗИТЬ КАРТИНКУ, написать ТЕКСТ СВЕРХУ и ТЕКСТ СНИЗУ – он помещался теперь поверх изображения. Помимо загрузки картинки предлагалось выбрать одну из привычных – типа ПЁСИКА, ПЕНГВИНА, БУХОГО ЛОБУНЦА В МИЛИЦЕЙСКОЙ ФУРАЖКЕ или ШКОЛЬНИКА. Нарисовать meme самому, без использования генератора, оказывалось не престижным – ведь в них использовался конкретный шрифт и точная геометрия расположения текста. Удивительная табуированность!
Но постепенно она отмирала. Когда в альбомах вконтакте начали соседствовать ЗАБАВНЫЕ КАРТИНКИ разных сортов, до людей стало доходить, что не обязательно придерживаться какого-то конкретного формата.
Например, комичные цитаты из переписки, которые в нулевых публиковались на сайте БАШ.ОРГ и по сути являлись немного обновлённой версией анекдота, теперь можно было публиковать как СКРИНШОТ ПЕРЕПИСКИ и добавлять в тот же альбом с memes.
Стали появляться комиксовые шаблоны, типа ЩЕНОК, БЛЯДЬ или с ЧЕЛОВЕЧКОМ, ГОВОРЯЩИМ «ОН НИЧЕГО НЕ ДОБЬЁТСЯ», А ЗАТЕМ ВЫПЛЁВЫВАЮЩИМ ЕДУ НА ЭКРАН. Отдельные рисунки типа TROLLFACE начинали жить своей жизнью. Эволюция memes ускорялась. И, что самое главное, расширялась тематика memes. Если раньше это были шутки на общую тему, обыгрывающие понятные всем ситуации, то постепенно memes начинали захватывать элитарные области.
Этому процессу стоит посвятить отдельные исследования, напомню лишь, что песни ансамбля ЛЕНИНА ПАКЕТ явно сыграли тут немалую роль, обогнав время. Композиции типа СТОП ДЛЯ ДЭЗ ИН ДЖУН или ЕЛЬЦИН И ДАВИД ТИБЕТ (обе – 2012 г.) совершили микропрорыв, который был мгновенно поддержан слушателями. Создавались паблики типа ПИАРРЕТДЖ И ДРУЗЬЯ или ГОМИКИ И ГУМИКИ (использовавший в т.ч. новосложившийся на тот момент концепт пабликов в духе ТОЛСТЯКИ И НОЖИ). В том же 2012 году, например, появился значимый паблик ВОЛОСАТЫЕ СКАЗКИ, обыгрывающий приключения БЕЛОЧКИ, ТОРТА, КЛЕЩА и ФИЛОСОФА ГУССЕРЛЯ.
С этого момента точно отследить процесс развития становится невозможным, memes раскрепощались семимильными шагами, так что проще сразу проанализировать, что мы имеем на сегодняшний день.
3. СВОБОДНЫЕ MEMES
Сейчас memes могут охватывать любые области – от бытовых до связанных с конкретной профессией, от общедоступных до узкоэлитарных, от политических до неполитических.
Создателем memes может стать кто угодно – художник, фотограф, фотошопер, дизайнер, концептуалист, шутник. Можно подделываться под расхожие шаблоны, можно добавлять в PAINT надписи на картинки, можно обрабатывать их криповатыми эффектами, а можно и не обладать ВООБЩЕ никакими техническими навыками – достаточно просто шутить в собственной переписке и делать скриншоты, либо читать книги и выкладывать сканы или фотокарточки с наиболее яркими цитатами. Свыше того, чтобы стать администратором популярного meme-паблика, можно ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ MEMES, а просто глядеть их пачками, отбирая и публикуя наиболее удачные.
Memes освободились по Ги Дебору, наиболее dank их представители могут не нести никакого конкретного смысла. В отличие от анекдотов, являющихся фольклорным жанром, memes могут быть однозначно авторскими. Memes даже больше, нежели анекдоты, стали формой общения – в онлайн-переписке люди скидывают друг другу memes не отвлекаясь от основной линии диалога, просто между делом, лишь для улыбки собеседника. Серийность memes осталась, но она вовсе не является обязательным фактором. В паблике, руководствующемся единой концепцией, формы memes могут максимально разниться – однокартинные и комиксовые (даже включающие посты с десятком картинок), состоящие только из текста и не содержащие его вообще, понятные и максимально бессмысленные.
Memes стали свободны. Но что же ждёт их дальше?
4. ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА MEMES
Казалось бы, этим пафосным вопросом можно и закончить статью. Ан нет. Мне захотелось обсудить с вами ещё ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ memes. Ведь их СВОБОДА не означает их УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. И это важно для понимания данного явления.
Казалось бы, мы пришли к выводу: memes – это забавные картинки, для создания которых можно использовать любые материалы, порой складывающиеся в серии, а порой индивидуальные, порой авторские, а порой не авторские. Люди смотрят их пачками для залипонного развлечения или по одному для спонтанного смешка.
И тем не менее, memes – это прежде всего сатирический материал. И специфический, в его юморе есть свои особенности. Легко представить себе, что самый известный отечественный сатирический писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, родись он сегодня, поделывал бы memes. Но могло ли всё его творчество уместиться в формат memes? Конечно, нет.
Раз Ги Дебор предлагал использовать memes для антикапиталистической пропаганды, то стоит задуматься, какой смысл возможно транслировать через них? Как позитивный, так и негативный. Читать эту статью будут самые разные люди, так что вот три пачки вопросов, позволяющие самостоятельно нащупать ответ.
Вы можете представить себе meme, доказывающий разумность введения ПАКЕТА ЯРОВОЙ? Какую серию из пятидесяти memes вам представить легче – высмеивающую «феминизм», или высмеивающую «сексизм»? Memes НАСТОЯЩЕГО ЛЕНТАЧА, высмеивающие политиков, или memes политиков, высмеивающие НАСТОЯЩИЙ ЛЕНТАЧ?
Вторая пачка. Какую серию memes вам представить проще – высмеивающих скинов или антифашистов? Потешающихся над хохлами, над москалями или над пендосами? Демонстрирующих ограниченность христиан, родноверов или мусульман? Монархистов, коммунистов или капиталистов?
Насколько memes могут являться критерием истинности? Дебор предлагал использовать memes для пропаганды. Но что они могут, а что не могут пропагандировать? Могут ли они только осуждать глупость, или и восхвалять её? Есть ли у них какие-то очерченные границы?
Ответы выведете сами. А затем либо оставьте их при себе, либо же поделитесь с общественностью.
Обложка — Илья Смех
24 notes
·
View notes
Text
Владимир КОЗЛОВ. Глава из романа lithium
Как мы уже говорили, Владимир Козлов выпускает свой новый роман под названием ЛИТИУМ. Также он любезно согласился предоставить нам одну главу для публикации – вот и она.
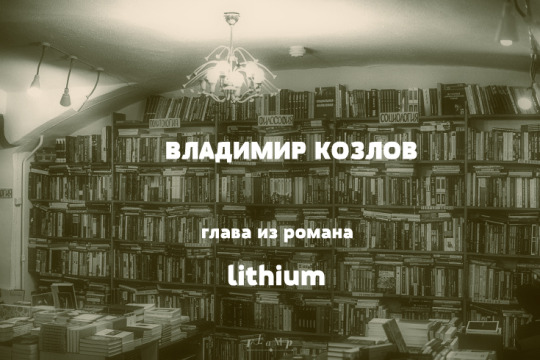
Оля
Я работала в книжном четвертый месяц. Мне здесь нравилось больше, чем в рок–магазине – хотя бы тем, что я могла читать любую книгу, и ничего не надо было покупать.
За день я прочитала тридцать страниц "Путешествия на край ночи", позвонила на радиостанции, на которые отнесла демо-запись "Литиума". На "Катюше" сказали, что еще не послушали, но "послушают обязательно", а от других я вообще ничего не смогла добиться.
Вечером в магазине проходил творческий вечер московского поэта Ковалевского. Я о нем никогда не слышала, но современную поэзию я знаю плохо, так что неудивительно.
Примерно за полчаса до начала начали собираться люди – в основном, пожилые дядьки в мятых пиджаках. Две девушки чуть помладше меня – типичные студентки филфака – копались в книгах, уточняли цены, но так ничего и не купили.
Два деда, стоя прямо у кассы, пили коньяк, передавая друг другу бутылку.
Один говорил:
– Мы были интеллектуальной элитой, мы помогли сбросить иго коммунистов. И чем нас, спрашивается, отблагодарили? Копеечной пенсией, на которую невозможно прожить? Нет, вы мне скажите, почему так? Мои книги издавались тиражами в сотни тысяч экземпляров, они есть в каждой районной, в каждой сельской библиотеке.
Второй молча слушал.
– Я в студенческие годы мог себе позволить обедать в "Европейской", а на первый свой гонорар – пятьдесят рублей – я там настоящий пир закатил. – продолжал он. – А сейчас, спрашивается, что можно себе позволить на пятьдесят рублей? Коробок спичек?
Мужик помладше, лысый, с торчащими из ушей седыми волосами, в давно не стиранной джинсовке, прислушивался к разговору, а потом сказал:
– Ты б уж лучше не пиздел, Виталя. Ты квартиру на Невском получил как поэт. Знаешь, сколько она стоит сейчас? Ты ее можешь продать, купить хрущевку где–нибудь в Автово и безбедно жить до конца своих дней.
– А вот хуй тебе, – ответил "Виталя". – Я лучше буду голодать, но с Невского никуда не уеду.
В магазин зашли организатор вечера Нина – худая, невысокая, за пятьдесят, с короткими седыми волосами – и Ковалевский – толстый, кучерявый, в растянутом бежевом свитере, засыпанном перхотью на плечах, и с коричневым пятном спереди.
– Вот она, наша надежда, – сказала старуха в черной шляпке с вуалью. – Правда ведь, Петя, вы – наша надежда?
– А вы – плесень на теле русской поэзии, – сказал Ковалевский и достал из потертой дерматиновой сумки мятые листы бумаги, распечатанные на принтере, и начатую бутылку водки.
Он отвинтил крышку, приложился, покопался в листах бумаги, выбрал один и начал читать:
Все можно оправдать дурной погодой,
Безвременьем, скукоженной свободой.
Свалить на неухоженный бардак,
Списать на перегруженный рассудок,
На окончанье века и пивной желудок…
Но разве это все не так?
Раздались жидкие аплодисменты. Он снова выпил водки и продолжил читать:
Все эти пацаны, революционеры-снобы,
Мажоры, умники, пижоны и щенки,
Их клубы андеграундные и трущобы,
Коммуны, сквоты, "хаты", чердаки…
*
Ковалевский читал заплетающимся языком:
Судьба моя, пожалей бродячих собак у батарей…
Судьба моя… пожалей коров, волов и бомжей…
Меня, изнывающего…. в волнении над их судьбой…
И мир, разорвавший… все… связи… со мной… с тобой…
Он закрыл глаза.
Несколько человек зааплодировали.
На голубых грязных джинсах Ковалевского начало образовываться темное пятно. Моча со стула закапала на пол – на валявшиеся там листки со стихами.
Не замечая этого, к Ковалевскому подошла все та же старуха в шляпке с вуалью. Своей тростью она опрокинула бутылку из-под водки.
– Молодой человек, я хотела бы у вас спросить, как у поэта. Как вы считаете, какая тема была самой главной в поэзии "Серебряного века"?
Ковалевский вздрогнул, открыл глаза.
– Пизда, – сказал он.
Несколько человек засмеялись. Старуха пошла к выходу.
Из подсобки вышла Валя – уборщица из Белоруссии – с шваброй, тряпкой и ведром воды. Она заметила, что Ковалевский обоссался.
– Ёб твою мать, это еще что такое? – заорала она. – Я тебе следующий раз самому в рот насцу!
Она ткнула Ковалевского в лицо мокрой тряпкой. Он открыл глаза, заморгал, снова вырубился.
– Уберите его, на хуй, отсюда! – крикнула Валя. – Совсем охуели, бля, поэты хуевы!
Нина подошла к Ковалевскому, стала трясти его за плечо.
– Витя, пойдемте. Скоро уже ваш поезд…
П.С. Подробности о приобретении свежего произведения в группе Владимира.
9 notes
·
View notes
Text
Иван СМЕХ. Исследовательницы и составительницы
У нас давненько не выходило свежих статей. Дабы исправиться, мы публикуем новый текст вашего любимого автора, Ивана Смеха, и на вашу любимую тему – о критике XIX века.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЫ И СОСТАВИТЕЛЬНИЦЫ. ОТЗЫВ О КНИГЕ «АВТОРИЦЫ И ПОЭТКИ. ЖЕНСКАЯ КРИТИКА: 1830–1870»
«Я сужу о городе по количеству имеющихся в нем книжных магазинов» – так звучит мой любимый афоризм известного композитора XIX века А.Г. Рубинштейна. Тут он в одиннадцати словах сформулировал подход, который я и сам искренне считаю совершенно верным. Естественно, речь идёт не только о городах и не только о книжных магазинах, а об отношении любого социального формирования к творческому наследию прошлого и настоящего. Например, о странах я сужу по их вкладу в мировую сокровищницу искусства, в первую очередь – по литературе, а затем науке и остальным категориям художественного творчества. Взять, например, Испанию. Если в XVII веке она могла похвалиться Сервантесом, Кальдероном и Лопе де Вегой, то в дальнейшем ситуация изменилась – в XIX и XX веках, когда Франция, Англия, Германия и Италия поставляли именитых писателей пачками, всемирно известных испанцев было всего ничего. Гарсиа Лорка, Мигель де Унамуно, кого ещё вы сможете вспомнить? Из этого приходится сделать вывод, что Испанию поставить в первый ряд европейских стран не удастся – культурный вклад сравнительно мал.
Я применил указанный подход к стране (а по сути – к народу, ведь искусство является его достоянием), но его можно применять и к государству. Например, царская Россия активно гадила своим лучшим писателям при жизни, а после смерти мешала изданию их сочинений – запрещала ПСС Пушкина, запрещала употреблять печатно даже само имя В.Г. Белинского, больше века запрещала достопамятное сочинение А.Н. Радищева, спустя десятилетия после смерти удаляла из публичных библиотек сочинения писателей-разночинцев и проч. В раннем Советском Союзе с изданием классики всё обстояло значительно лучше, она действительно стала народным достоянием, но и некоторым живущим деятелям повезло даже меньше, чем Н.Г. Чернышевскому – Мейерхольду, отцу украинского футуризма Михайлю Семенко, Борису Пильняку, Бабелю, автору первого советского романа и повести «Щепка» Владимиру Зазубрину и проч. Такое отношение государства к культуре не может не произвести гнетущего впечатления и накладывает на него огромную тень.
Но указанный подход можно применить и к «Женскому движению», как оно именуется в рецензируемой книге, проверив, насколько уважительно это движение относится к культурному достоянию своих предшественниц. Достаточно посмотреть, сколько участницы этого движения издали трудов, основали тематических книжных серий, изучили и написали биографий женщин-авторов. В рамках «движения» этим стоило бы заняться в первую очередь! Максимальное внимание при этом необходимо уделить именно XIX веку как наименее очевидному пласту, тем более что к XX борьба женщин за свои права дала значительные результаты (появились общепризнанные писательницы: Елена Гуро, Зинаида Гиппиус, Ольга Форш, Анна Ахматова, Тэффи, Лидия Сейфуллина, Марина Цветаева) и разделять творчество по половому признаку стало бессмысленным.
Покопайтесь в памяти. Вспомнили что-нибудь? Мне вот попадался один сборник философских работ М.В. Безобразовой (1867–1914), роман Марии Крестовской «Ранние Грозы» (изданный в серии «Дыхание любви»), проза Анны Мар и Екатерины Бакуниной (изданные в серии «Сэкс пир»), сборник «Женская драматургия Серебряного века», да, пожалуй, и всё. Естественно, я не закапывался в тему со всем усердием, но хотя бы интересовался ей не раз, так что из объёма и состава этого списка видно: отдельные участницы «Женского движения» внесли свой вклад, но в целом не проводилось никакой последовательной работы, большого уважения к культурным артефактам, созданным предшественницами, выявить невозможно, и в издании женской прозы даже больше их были заинтересованы люди, пытающиеся заработать на «клубничке» (замечу, что тут речь идёт о прозе конца XIX – первой половины XX века, т.е. формально этот пласт выходит за рамки разбираемого периода). Если судить о «городе» по количеству имеющихся в нём книжных магазинов, то можно сделать вывод, что «город» находится в весьма плачевном состоянии! Таков, к сожалению, беспристрастный вердикт.
Для сравнения отмечу, что в Советском Союзе, где «Женского движения» в его нынешнем западническом виде не существовало, дела с опубликованием женской прозы обстояли значительно лучше. Многократно выходили сборники избранного кавалерист-девицы Надежды Дуровой, графини Ростопчиной, Софьи Ковалевской, Марка Вовчка, Леси Украинки (у последних двух даже выходили собрания сочинений; впрочем, они стоят на стыке между женской и национальной прозой), отдельные издания Надежды Дмитриевной Хвощинской, Марии Семёновны Жуковой, Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник, была издана объёмная обзорная трилогия, охватывающая творчество русских писательниц за предшествующие революции сто лет «Дача на петергофской дороге», «Свидание», «Только час», и даже в «местных» сериях можно было найти что-нибудь занятное по теме, например, в «Литературных памятниках Прикамья» вышло по тому А. Кирпищиковой и Е. Слепцовой-Камской, не говоря уже о многочисленных изданиях мемуаров (А.Я. Панаевой, Л.П. Шелгуновой, Н.А. Тучковой-Огарёвой, Е.И. Жуковской, М.Г. Савиной, список можно продолжать долго). При этом, что немаловажно, книги сопровождались подробными вступительными статьями, обзором биографии и творческого пути.
Можно сказать, что советская традиция издания женской прозы скорее захирела, нежели обрела новую кровь в лице «Женского движения», и с тем большим удовольствием я приветствую современную инициативу Марии Нестеренко, составительницы (в книге указана как «составитель») сборника «Авторицы и поэтки. Женская критика: 1830–1870». Данная книга оказывается первопроходцем, ведь подробного внимания именно женской критике XIX века не уделялось вообще никогда! Таким образом, я счёл своим долгом посвятить ей настоящий отдельный разбор.
Разбор будет совершаться со всей подробностью, а значит первое, что требует оценки – это внешний вид и общая «подача» книги. На обложке помещена чёрно-белая женщина с крылышками и куском льва, поверх неё т.н. «ручное зеркало» – символ женского пола, задняя сторона обложки содержит его же и аннотацию, в целом же на обложке превалируют эмо-цвета: чёрный и розовый, а дизайн можно охарактеризовать как «модный». Аннотация гласит: а – а
«Писательница Александра Зражевская, одна из героинь этой книги, называла "авторицами" и "поэтками" женщин-литераторов: они продолжали заниматься своим делом, хотя мужчины отказывали им в праве на интеллектуальный труд. В настоящий сборник, первый в своем роде, вошли статьи женщин-критиков, написанные в 1830–1870-х годах – речь в них идет о положении женщины в обществе и участии в литературном процессе. Женщины вошли в русскую литературу значительно раньше, чем принято думать, и им было, что сказать».
Вкупе с названием и содержанием всё это сразу же вызывает порядочное количество мелких замечаний.
С названия и начну. Не совсем ясно, почему женскую критику писали «авторицы и поэтки». Конечно, большинство писателей XIX века были так или иначе замечены в написании критических статей, но вовсе не все критики отметились художественными произведениями, и такой их «побочный» труд редко воспринимают как серьёзный – никто не считает Белинского драматургом, а Писарева писателем за их юношеские пробы пера. Критик, публицист, литератор – вот привычный набор характеристик для людей, прославившихся своими статьями. Из чего можно сделать вывод, что слова «авторицы и поэтки» присутствуют на обложке не для описания содержания книги, а для помещения её в определённый современный контекст. Впрочем, и тут наблюдается хождение по тонкому льду.
Из опубликованной в книге статьи Зражевской почти однозначно следует, что к своим обозначениям она прибегала по совершенно иной причине, нежели это совершается сейчас. В её время было не очевидно, что женщины способны к литературному труду, жёсткие социальные ограничения и вековые устои заставляли консервативную публику воспринимать новое явление как что-то уродливое и ненормальное. Зражевская ввела эти слова с целью конкретно обозначить группу действительно существующих писательниц и поэтесс, чтобы на примере этой группы доказать, что женская литература – это уже не единичное явление, и она имеет полное право на существование, т.е. просто для удобства и краткости. Сегодня же ничего подобного доказывать не нужно, и введение подобных терминов носит своей целью изменение «угнетающих» языковых канонов. Совершенно не факт, что Зражевская поддержала бы этот нынешний подход, а в своё время она даже не могла помыслить о чём-то подобном.
Далее, в названии указано, что перед нами сборник критики, но и это определение оказывается не совсем точным. Под критикой, с учётом контекста, стоит понимать литературную критику, т.е. разбор художественных произведений или статьи, относящиеся к литературной полемике. Высказывания же на политические и социальные темы принято именовать публицистикой, и, например, заметку Елены Лихачёвой о научно-популярной книге Милля я бы отнёс именно к этому жанру. В кратких биографических описаниях, помещённых внутри сборника, слова «критик» и «публицист» также следуют через запятую, а значит и сама составительница, Мария Нестеренко, разделяет для себя эти понятия.
И последнее – датировка (1830–1870-е). Основной объём статей относится к шестидесятым годам, одна – к пятидесятым, две – к сороковым и одна к семидесятому. К тридцатым же относится лишь небольшая пятистраничная заметка Зражевской, да и та была опубликована в 1842 году, так что если наличие семидесятых ещё можно понять (хотя одна статья первого года десятилетия едва ли может дать о нём какое-то представление), то уж тридцатые из датировки можно было выкидывать без зазрения совести. Содержание сборника в таком случае явно больше соответствовало бы читательским ожиданиям.
Впрочем, из этого анализа видно, что общая «подача» сборника ориентирована в первую очередь на представительниц «Женского движения» и вообще молодых людей, заинтересованных в злободневных темах. К попытке заставить их таким путём читать критику и публицистику XIX века я не могу не отнестись с полным сочувствием, ведь это – один из самых замечательных пластов отечественной словесности, и не так важно, каким образом люди придут к его изучению и штудированию. Следовательно, часть моих замечаний снимается. Далее же перейду к анализу содержимого сборника, а затем к разбору его научного аппарата.
1. Открывается книга статьёй уже упомянутой А.В. Зражевской под названием «Зверинец». Возможно, на восприятие этого текста повлиял указанный в биографии факт о её позднем сумасшествии, но в тексте действительно чувствуется безуменка. Перед нами яркий, крайне эмоциональный, сбивчивый и закручено-метафоричный текст, порой перескакивающий на вымышленные диалоги. Под «Зверинцем» Зражевская понимает набор из трёх стратегий аргументаций мужчин-критиков, не признающих за женщинами права на умственный труд, и трёх отрицательных качеств мужчин-литераторов. Она высмеивает вторых и гневно изобличает непоследовательность и скудоумие первых.
Вторая статья Зражевской обращена к девушкам и предостерегает их от чтения развлекательных романов, и тут для примера можно выписать отрывок:
«Что такое роман? Вымышленные и по большей части противные здравому рассудку и истинному вкусу происшествия, украшенные или, лучше сказать, задавленные всеми одеждами безрассудной фантазии, которые завлекают ваше пылкое воображение в необозримые лабиринты догадок, вздорных приключений, беспрестанно развязывающихся завязок, от которых часто и сам творец романа не имеет Ариадниной нити ума! На каждом шагу, как детей, пугают вас призраками, мертвецами, ведьмами, духами или обливают без пощады горячими слезами, щедрой рукой льющимися из очей несчастных героев; сладкая чувствительность с рассыпанными волосами, неутешно рыдая, бродит из одной строки в другую, одним словом, роман подобен безмерному, обклеенному битыми стеклушками зданию, которое издали, по неопытности, приятно играя лучами воображения, обворожает чувства ваши – взгляните же в него, в зрительную трубку рассудка, и очарование превратится в омерзение! Приятность романа так же кратковременна, как и блеск ракеты – пока горит! Но не забывайте, что от неё всегда остаётся едкий дым. Несчастлив тот, кто, не чувствуя горечи, напитается дымом романов: сердце его мало-помалу покроется сажей соблазна, и погибель его неизбежна. Страшитесь запускать зеленеющий цветник вашей юности! Исторгайте с корнем негодные былинки, пока не обратились они в колючий терн».
Размышляя о том, чем занять время вместо романов, Зражевская отвергает вариант с изучением «непонятных философских сочинений, в которых сам сочинитель редко понимает, что написал», и бегло предлагает неожиданный вариант:
«Есть много книг, которые по чистоте цели, духу чисто русскому и религиозному, хорошему языку и удачному исполнению совершенно заслуживают полное участие всякого доброго русского и любителя изящной словесности».
Отмечу, что в последующих статьях сборника, полностью в соответствии с традициями демократической критики, религиозные увлечения именуются «мистицизмом» и не предлагаются как заслуживающая внимания альтернатива. В целом же эти две работы Зражевской оказались для меня наиболее неожиданными из всего сборника по своей яркой и изощрённой стилистике (а первая ещё и по проблематике, чего нельзя сказать о второй; сатирическое изображение молодой барышни, начитавшейся переводных романов – общее место для множества произведений русской классики). Отличное начало.
2. Далее – статья Евгении Тур, посвящённая разбору автобиографии Жорж Санд, 1856 год, наиболее объёмная работа из всех, помещённых под чёрно-розовой обложкой. И, кажется, наименее уместная. Сама Мария Нестеренко указывала в разделе «от составителя»:
«Данное издание не претендует на академическую полноту. Наша задача – сделать доступным для широкого читательского круга тексты женщин-критиков, в которых поднимаются специфически «женские» вопросы. Из довольно большого количества критических статей, написанных женщинами в интересующий нас период, были выбраны те, в которых речь идёт о положении женщины в обществе, возможности её участия в интеллектуальном труде, а также те, в которых отразился особый, женский взгляд на литературу».
И тем не менее, в настоящей статье Евгении Тур, хотя и написанной живым языком, мы скорее видим пересказ содержания книги, снабжённый обширными цитатами и лишь редкими комментариями. Кажется, именно эти комментарии (а не доступность текста на «либ.ру» в современной орфографии) и стали причиной включения статьи в сборник. Но, с учётом его ограниченного объёма, отдавать почти пятую часть содержания под такой малонасыщенный текст – решение спорное. Интересна могла бы быть сама биография Жорж Санд, далеко не обязательно известная читателю, но статья оказалось недописанной и обрывается на полуслове, так что не даёт полного представления о предмете. Трудно сказать, были ли написаны Евгенией статьи, более подходящие под концепцию книги, но по информации с «Википедии» можно предположить: таковыми могли бы быть критические обзоры творчества М.В. Авдеева (вероятно, раннего романа о женской эмансипации «Подводный камень») или Н.Д. Хвощинской. Впрочем, в этом предположении также содержится слишком много вольности – с самим текстом статей я не знаком.
3. Анна И-ч, «Книга женщин XIX столетия». В силу небольшого объёма этой публикации я не буду останавливаться на ней подробно, как и на заметах Елены Лихачёвой «Милль о подчинённости женщин» и Людмилы Симоновой-Хоряковой «Забытый вопрос», а также находящемся в приложении стихотворении П.М. Бакуниной. Наличие этих публикаций в сборнике вполне оправданно, они вносят некоторые штрихи в общее восприятие темы, о котором я поговорю ближе к концу статьи.
4. «Провинциальные письма о нашей литературе» Надежды Хвощинской. Это наиболее ожидаемые мной статьи из сборника, но они же оказались главным его разочарованием! Н.Д. Хвощинская – наиболее плодовитая из трёх сестёр-писательниц, автор множества романов, повестей и рассказов. Сборник её избранной прозы был известен мне давно и весьма полюбился, в особенности – выделяемая и современниками повесть «Первая борьба». Надежда Дмитриевна – последовательница Белинского, соратница М.Е. Салтыкова-Щедрина и автор круга «Отечественных записок», журнала, известного своими высокими требованиями к публикуемой художественной прозе. Дальнейшее издание сочинений Надежды Дмитриевны я всегда считал одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед «Женским движением» (судя по биографической статье из «Избранного», среди романов есть значительные удачи; да и её творчество как единое целое достойно внимания, оно интересно мрачным пессимистичным настроением, вызванным социальной обстановкой в царской России и невозможностью проведения в жизнь положительных гуманистических идеалов), а ремонт её дома в Рязани – одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед жителями Рязани. Опубликованные же статьи оказались серыми и косноязычными, чего было трудно ожидать от писательницы, обладающей очевидным художественным дарованием. И всё-таки удивительно, что её произведения в Советском Союзе почти не переиздавались, хотя в то же время выходили романы Шеллера-Михайлова и даже собрания сочинений Станюковича, более поверхностных и шаблонных беллетристов.
5. Как видно из вступительной справки, Евгения Конради публиковалась в лучшем из журналов, существовавших когда-либо – «Русском слове» Г.Е. Благосветлова. И правда, легко представить статью «Последняя любовь. Роман Жорж Санд» на его страницах! Глубокий психологический анализ, выполненный в жанре «реальной критики», наследование традиций Добролюбова и Писарева, любовь к тому, что М.А. Антонович в пылу полемики именовал «фразами», – всё это не может не согревать сердца читателей настоящей статьи. Разве что «фразы» использованы не всегда удачно, порой отсутствует гладкость стиля, но общего анализа это нисколько не портит.
6. И семидесятистраничный блок от Марии Цебриковой, содержащий две статьи, – разбор женских образов в романе «Война и мир» графа Л.Н. Толстого и отзыв о романе «Обрыв» цензора И.А. Гончарова. Первая статья в своём роде идеальна и тематически, и стилистически, вторая по ходу развёртывания мысли теряет отточенность и к последней главе оказывается перегруженной повторяющимися общими выражениями, что для сборника является вынужденной (т.к. порядок расположения текстов – хронологический) композиционной неудачей. Тем более, что окончание именно первой статьи, «Наши бабушки», могло бы стать хорошим завершением всего сборника женской критики и публицистики:
«Любовь, безответная преданность, самоотвержение, уменье очаровывать, мир гостиных и мир семьи – вот в чем состояла жизнь наших бабушек, вот что они завещали своим дочерям. Усмешкой горькою обманутого ожидания наши матери не встретили доставшееся им наследство; они приняли его как драгоценную святыню и неприкосновенно передали нам. Безответная покорность, всепрощающая любовь и самоотвержение княжны Марьи, нежность и верность Сони, уменье держать себя в свете и купить собою богатого мужа Элен, игривое кокетство маленькой княгини и очаровательность Наташи, разумеется, без неблагоразумных увлечений ее, – вот те идеалы, по которым воспитывали нас; вот та жизнь, к которой нас готовили. Усмешкой горькою мы, в свою очередь, не встретили наследства матерей наших, – обманутого ожидания не было. Мы рано из их собственной жизни поняли всю бедность этого наследства, все развращающее влияние вечной зависимости на женщину и сознали наши права на то, чтобы жизнь наша была в наших руках, а не зависела от благосклонного взгляда мужчины или прихоти самодура, наши права на своё место в обществе, которое не он даёт нам, а сами мы возьмем своими силами, на свою собственную жизнь, жизнь трудовой и свободной деятельности, настоящую жизнь. Сильные этим сознанием, мы вступаем на новый путь. И если первые шаги наши на нём нетверды и неумелы, если торжество достигнутой цели не даётся нам, все-таки на нашей совести не будет упрека – мы делали, что могли; и неудачи наши, и первые неумелые шаги укажут путь другим поколениям и будут наследством, которое внучки наши встретят не горькой усмешкой».
В целом сборник собран достаточно объективно и позволяет без проблем проследить картину женской эмансипации в указанный период. Начало пути было особо трудным, общественной поддержки и внимания не хватало, но именно это начало отвечает на один важный вопрос – почему видных «авториц» в то время было так мало? Раз уж путь к серьёзному научному образованию закрыт, то, казалось бы, сиди себе дома да читай книги, наблюдай окружающую жизнь хоть на небольшом пространстве, внимательно анализируй её и затем описывай. Но нет, и это право старались у женщин отнять, подвергая литературные занятия ярому осуждению.
Если в первых статьях Зражевская ещё отстаивала само право женщин заниматься писательским трудом, то спустя пятнадцать–двадцать лет после этих публикаций ситуация изменилась. Отстоять своё место в жизни женщинам-литераторам всё ещё было непросто (например, М.Г. Цебриковой приходилось выносить рукописи из дома, зашивая их в юбки, дабы не навлечь гнев домочадцев), но вопросы на повестке дня стояли уже более глобальные – о полной самостоятельности женщин в жизни. В разборах произведений подчёркивается, что до сих пор главенствовала ситуация, когда единственная роль женщины – это жена или мать, а иначе для общества она окажется отщепенкой. Даже передовые представители своего времени ещё недавно относились к женщине именно так, и даже реализация себя в качестве жены или матери могла зависеть от случая – однозначной проторенной дороги не было изначально. И тем сильнее в них пробивалось желание заниматься собственным трудом, преимущественно – интеллектуальным.
«Женское движение» на этой стадии отличалось глубоким и вдумчивым анализом, выявлением не только самих проблем, но и их глубоких социальных корней, а также взвешенностью и логичностью предложенных способов их решения. На этом контрасте со всей очевидностью бросается в глаза, что с течением времени и сменами социальных строёв ситуация менялась кардинальным образом.
Не могу сказать, что почувствовал в этом сборнике указанный «особый, женский взгляд на литературу», ведь необходимость разрешения женского вопроса понимали и мужчины, т.к. ущемление прав любых членов общества создавало уродливую общественную атмосферу, с которой необходимо было бороться. В статьях, например, Дмитрия Ивановича Писарева поднимались все те же проблемы, и он был далеко не одинок. Общий вектор взглядов выковывался в журнальной полемике, и все передовые люди постепенно сходились на одной точке зрения, а затем транслировали её далее.
Интересно, что настоящий сборник как раз продолжает захиревший советский издательский подход – все женщины-литераторы, попавшие со своими работами под одну обложку, так или иначе были близки к демократической линии, печатались в «Московитянине», «Отечественных записках», «Русском слове» и условно прилегающем к нему «Женском вестнике», «Деле» – т.е. в признанных советскими литературоведами журналах, очевидно не консервативного и не охранительного толка. Сборник вполне можно считать дополнением к трилогии женской прозы, который я упоминал в начале статьи, с той лишь разницей, что тираж последнего тома трилогии составлял, например, 300 000 экземпляров, а этого – в 600 раз меньше (500 экземпляров).
Но это и налагает на составительницу некоторую ответственность – читатель старых книг привык к наличию выверенного научного аппарата, высокому уровню комментариев и вступительных статей. Необходимо оценить, как с поставленной задачей справилась Мария Нестеренко. И тут, к сожалению, придётся указать на ряд огрехов.
Вступительная статья не даёт привычного контекста к материалу книги. Хотя в ней и содержатся интересные критические отзывы, описывающие в первую очередь ту социальную атмосферу, против которой боролась Зражевская, но после них начинаются скачки с места на место, внезапно обрывающиеся к последнему абзацу. Общего анализа явления, вынесенного в заголовок книги, тут не обнаруживается. В какой-то мере эту статью дополняют краткие биографические сведения относительно каждой «авторицы», предваряющие их публикации, но в советских изданиях они также присутствовали в примечаниях. Далее, аппарат сносок разработан непоследовательно. Не всегда даются переводы иностранных выражений, не всегда комментируются литературные произведения или герои литературных произведений. Например, на стр. 119, когда Н.Д. Хвощинская начинает разбор романа «г-жи Н-вой», никаких сведений об этой госпоже читатель не получает, хотя за псевдонимами тогда скрывались повсеместно. На стр. 256 к фразе «Райнер, Бакланов, Ситников, Кувшина, компания нигилистов "Дыма", студенты Авенариуса…» примечания также не встретить, хотя моя память со всей очевидностью подсказала мне лишь героев романов Тургенева, и вспомнить, кем были остальные, было бы не лишним. Хуже того, когда статья Евгении Тур обрывается на полуслове, никакого примечания о том, что её продолжение так и не было написано, не даётся, и читателю остаётся только ломать голову в догадках. Но и имеющиеся в наличии примечания иногда вызывают вопросы. Так, в примечании 9 на стр. 254 упоминается некий роман Шпильгагена «Новый Фараон» и утверждается, что там «довольно критично изображено немецкое общество 1870-х годов». Вся загвоздка в том, что статья, к которой даётся этот комментарий, была опубликована в 1870 году, и трудно представить, чтобы Шпильгаген писал о будущем. «Википедия» и вовсе говорит, что «Новый Фараон» был опубликован в 1889 году, так что путаница с датами становится совершенно неразрешимой. Этому могло бы помочь указание, по какому источнику печатается текст, но и его нет. А ведь возможно, что статья подвергалась точечной правке и перепечатывалась позже – тогда такое разногласие снялось бы. Ко всем этим мелким ошибкам добавляются ошибки в вёрстке – разнобой при оформлении цитат (выделение иным шрифтом на стр. 111, 134–135, 258 против обычного шрифта во всех остальных случаях) и сбитые сноски (стр. 190, 261; цели выискивать подобные ошибки я не ставил, лишь подмечая их при обычном чтении книги, так что список может быть не полон). Всё это создаёт ощущение лёгкой небрежности и поспешности при работе над сборником, впрочем, нисколько не умаляя ценности самих опубликованных текстов.
***
Подведём итог. Настоящий сборник – вполне замечательное явление, все указанные огрехи легко исправимы, в то время как его плюсы очевидны. Новых публицистов первого ряда сборник не открыл, но это было бы и невозможным – всё-таки первый ряд был отфильтрован десятилетиями с предельной чёткостью. Любые издания работ других именитых публицистов, скажем, Н.В. Шелгунова, Н.К. Михайловского или М.А. Антоновича показывали, что в первом ряду для них места не нашлось. И тем не менее читались они с удовольствием и интересом, стилистические огрехи у них присутствовали, но был и высокий пафос, и глубина мысли. Всё то же можно сказать и о разбираемой книге.
Теперь остаётся лишь с надежной ждать от Марии Нестеренко продолжения разработки поля женской литературы – будут ли это отдельные сольные сборники критики от женщин-литераторов (например, Цебриковой) или сборники публицистики за иные временные периоды или же даже за тот же, а то и вовсе издания прозы – всё это будет встречено публикой с полным вниманием, главное только не останавливаться на достигнутом, ведь новые издания подкрепят авторитет и настоящей работы.
Авторица обложки – Екатерина Скареднова
9 notes
·
View notes
Text
Интервью с артисткой Ксенией АТ о новом альбоме
Альбом носит название ПЕСЕНКИ СЕВЕРА и содержит 13 композиций. Послушать его можно тут.
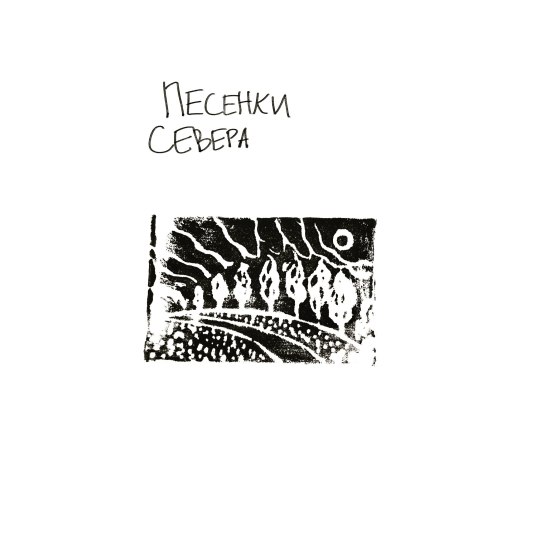
ЛУКОШКО РОССИЙСКОГО ГЛУБОКОМЫСЛИЯ: Товарищ Ксения, здравствуйте! Расскажите, сколько лет назад вы ступили на тропку шоубизнеса? Сколько релизов вышло за это время, помимо ПЕСЕН ДЛЯ ЗОЙКИ?
Ксения АТ: В шоубизнесе я с 2012 года. Все началось с постпанк песен про колеса (зубчатые колёса? – прим ред.), записанных на встроенный диктофон старого минибука VAIO. Писались дистанционно (человек в Питере, я во Фрязино), пока не поругались и я не познакомилась с конгломератом ЛЕНИНА ПАКЕТ. Данное знакомство расширило мой кругозор, и я стала увлекаться всякими фрутилупсными делишками и электроакустикой 50-х годов. Собственно говоря, сейчас я уже прошла нелегкий путь от КОЙЛ до ГРОБ РЕКОРДС, и теперь-то я поняла, что такое музыка. Таким образом, можно сказать, что у меня вообще ничего не выходило ранее, это была не я! Но по факту я постоянно выливаю одиночные песенки в сеть, а люди это компонуют по своему усмотрению и заливают в паблики. Например, мне часто пишут «классный альбом на кото! когда второй?», а я ни сном ни духом, что это, оказывается, альбом, просто накидали кучу моих, пусть и хороших, демок, записанных на телефон, в один пост. Более-менее складная русскоязычная программа у меня раньше была только на концертах с гуслями. И вот теперь вышел первый полноценный альбом.
ЛРГ: Прежде чем перейти к альбому, хотелось бы прояснить ещё некоторые детали вашей биографии. Например, насколько мы знаем, у вас есть теневой стаж в качестве администратора мемпабликов. Расскажите, пожалуйста, о них.
АТ: Мой последний проект «будни фейсбучного бомонда» высмеивает московский союз мета-художников. Мне кажется, что там почти все поголовно имбецилы, но если над больными нельзя смеяться, то над больными с деньгами и апломбом – похихикать дело святое. Мета-дети так себя любят, что если ты их карикатурно нахваливаешь, то они не считывают это как иронию – удалось даже влиться в их тусовку, добавив ДВЕ ТЫСЯЧИ человек в друзья на фейсбуке по геолокации Москва. Толкаю им картины за дикие деньги (для них мизерные, для меня – существенные; два месяца жила на их донат). Правда, иногда меня передергивает, когда я прихожу на какую-нибудь выставку заради посмеяться, а ко мне подходят и спрашивают «Это ты Ксения АТ?» (я сразу ожидаю разборок и предъяв, конечно же), и дальше, слава богу, следует какой-нибудь глупый вопрос, типа «это же ты на чем-то китайском играешь, да?». До этого наибольшую славу мне принес проект Фанаты постпанка и колдвейва сами-знаете-откуда, но мне надоела эта музыка, постоянный срач в комментариях и в лс, а еще меня однажды преследовал какой-то недобрый подписчик и писал мне смс-отчёт о том, в какой точке города я нахожусь. Не надо так.
ЛРГ: Расскажите, как вы сделалась художником? Художественное образование имеете? И как вам удалось так быстро начать продавать картины?
АТ: Нет, я нигде не училась; хуярю как могу. А так как у меня нет ни умения, ни мастерства, важно очень точно попасть в настроение (в этом мне помогают такие альбомы как «МЫШЕЛОВКА», «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ», «ПРЫГ-СКОК», «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА», «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ», «ВОЙНА», «ЛЕТ ИТ БИ»). Обычно, когда настроение уходит или мне хочется поделать что-нибудь другое, у меня гадится картина и нужно её как можно скорее отложить в сторону, чтобы не испортить. На самом деле я живу в бедности и добровольно-вынужденном аскетизме, так что уважаю разумное потребление, сначала рисую по пять-семь вариантов картинки на одной бумажке. То есть у меня прям такой жирный слой краски в конце выходит, и в итоге на тебя с холста смотрит совсем не то, с чего все начиналось.
Продажи же начались спонтанно, просто случился у меня гормональный сбой, резко поднялся тестостерон, и я нарисовала семь картин за семь часов (как в х/ф «Да и да» что ли? – прим. ред.). Выложила в фейсбук с ценником пятьсот-восемьсот руб. и в ту же неделю их раскупили. С тех пор я стала повышать ценник, всё выше и выше. Например, моя лучшая работа – картина «НЕТ» – стоит два млн. рублей, и это еще дружественная цена. Чужакам я продам ее только за десять млн. рублей. Без лишней скромности скажу, что это охуительнейшая вещь, лучшее моё творение. Когда держишь её в руках, будто проваливаешься в маленькую осеннюю бездну, где сеногной щиплет нос, а в кармане предательски шалит ветер. Это было бы возмутительным бесстыдством и грехом перед лицом искусства – отдать её за меньшие деньги. Вещь на века. Так что если вы имеете бюджет – ещё осталась возможность прикоснуться к вечности.
В данный же момент я продаю свои труды самым разным способом. Иногда толкаю в фейсбуке на стене (помимо мета-детей у меня там много замечательных людей в друзьях), иногда в группах картинок или бедных художников. Сейчас основная масса продаж – карельские пейзажи (а именно пейзажи города Медвежьегорск, где находится урочище Сандармох). Вырученные средства идут в фонд помощи историку ЮРИЮ ДМИТРИЕВУ. Кстати сказать, дело Дмитриева – это такое событие, это одна из самых важных вещей в моей жизни, после того, как я посетила урочище Сандармох. Мало того, что это абсолютно «мое» место по атмосфере, так как самые мне близкие темы метафизически – это расстрелы, солдаты, мучения, лес, Россия; а там все это вместе (на территории урочища расстреляны от семи до девяти тысяч человек в период т.н. БОЛЬШОГО ТЕРРОРА), так еще и дело самого Дмитриева напоминает соцдраму конца восьмидесятых (что со мной тоже сильно резонирует). Ну и, естественно, очень не хочется, чтобы финал этой истории был как в соцдраме, поэтому пытаюсь помочь, чем могу, и популяризирую эту ужасную историю, которая произошла с настоящим русским миссионером. Быть может, не я, но кто-то узнает от меня и сможет помочь. Или вот удаётся продать картины, и я перечисляю деньги его семье, что тоже радует.
ЛРГ: Давайте начнём приближаться к вашему альбому. Когда мы презентовали ваш клип на песню ТАКТИКА ВЫЖИВАНИЯ, то людей смутило детальное перечисление редких этнических инструментов, использованных в звукозаписи. Зачем было подчёркивать эти формальности? Считаете ли вы, что музыка станет талантливее от того, что она сыграна на этих инструментах? Или это самохвальство? И ещё – мы слышали, что вам довелось опробовать редкий музейный экспонат.
АТ: Я скорее не хвалюсь, а очень горжусь собой и удивляюсь, что мечты сбываются. В описании к клипу мне показалось, что это комичный китч, ведь тех странных редких инструментов в песне совсем не слышно. Грубо говоря, мне нравится пересмеиваться с самой собой. С другой стороны, меня часто спрашивают «а на чем это сыграно, что за плагин?», так что лучше сразу предоставить исчерпывающую информацию – чтобы опередить любопытных.
Про музейный инструмент – да, было дело, играли в 2013-14 годах на АНС. Я тогда очень увлекалась электроакустикой, параллельно узнала, что КОЙЗ записывались на этом синтезаторе, меня это крайне привлекло, и каким-то чудом удалось пробиться к инструменту на запись двух сессий прямо в музее – там, конечно, невероятная акустика. Нам очень помог пионер АНС – Станислав Антонович Крейчи, он музыкальный преемник Евгения Мурзина, создателя инструмента, и главный его хранитель и инженер. Это вообще удивительнейший человек по энергетике – очень живой и интересный, потрясающий композитор и энтузиаст. Год назад я была на его лекции, где он рассказывал, как делает новые произведения из записей “разговоров» дельфинов. У него до сих пор очень необычная и свежая музыка (гармонически и композиционно), дает фору молодым дарованиям.
Записи на АНС до сих пор вспоминаю как волшебный сон – всё ведь происходило посреди жаркого летнего рабочего дня, люди лениво слонялись по помещению, глазели, акустика музея и шум инструмента придавали всему вид галлюцинации. Мы потом ещё пару раз играли в том же музее с мужем, но уже без Крейчи, и поэтому нас начинали выгонять уже через час записи. Сейчас Станислав Антонович ушел на пенсию, и теперь у нас почти нет доступа к инструменту. Как я только не пыталась за все эти годы устроить полноценную сессию записи АНС – ничего не вышло. Это не VST плагин, к нему нужен особый подход и особая настройка – не всегда хватает времени и у меня, и у музейных работников.
К тому же сейчас этот синтезатор находится в печальном состоянии, у него в прошлом году уже не работала область высоких частот. Меня очень кошмарит то, что происходит в России с редкими музыкальными инструментами, особенно с АНС – он такой один, и аналогов ему в мире точно нет (как минимум, по звучанию). В этом году я планирую снять фильм о нем, чтобы собрать денег на ремонт и вообще популяризировать советскую электроакустику. Надеюсь осуществить планы.
Читателю рекомендую послушать произведения Шнитке, Губайдулиной, Артемьева и, конечно же, Крейчи на АНС (КОЙЛ, как я считаю, справились не очень – но у них было времени так же в обрез, как и у нас, можно понять ребят).
ЛРГ: Давайте теперь перейдём к нововышедшему альбому. Ксения, расскажите пожалуйста, откуда в вас проснулось это русское народное? С учётом вашего богатого интернационального опыта, проживания во Вьетнаме и фанатения от английской экспериментальной музыки?
АТ: Мне всегда нравилась этническая музыка континента, только годами ранее наряду с британским подпольем я увлекалась музыкальной топографией Юго-Восточной Азии, Японии и Эфиопии. Из увлечения красными зао, хмонгами и амбасселем вышло увлечение музыкой гуцулов, оттуда вышел интерес к славянскому миру и последующий интерес к гуслям и гудку. Ну и гусли это русская цитра, так что аж две тропинки меня привели к русской музыке – после кото мне было интересно, а как же звучат цитры разных стран. И в итоге русская композиторская и игровая традиции мне оказались ближе всего – очень разъебистый, разухабистый мир лихой музыки, прямо бурелом лесной. Вторую половину жизни я прожила во Фрязино, поэтому в итоге появился самый искренний музыкальный интерес и к России, и к миру Азии.
ЛРГ: …
АТ: Как-то раз мне нечего было делать и я решила сходить в гусельный музыкальный центр. Мне там очень понравилось, у меня довольно быстро получилось разучить бой Скобаря под драку, и я уже собралась уходить, но тут заходит гуслистый мастер – показать свои последние творения. Один экземпляр гуслей просто невероятно меня восхитил, ну там бесполезно звук описывать – его нужно слушать, но это дичь. Естественно, я их выкупила и больше в мастерской не появлялась. Когда я ездила в Карелию, я всю дорогу на них играла – в поезде, на урочище Сандармох, в лесу – они везде звучали по-разному, и было ощущение, что мёртвые говорят со мной при помощи этих звуков. У меня вообще в последний год усилилась связь с мертвыми. То они меня ведут куда-то, то снятся мне, то что-то рассказывают и показывают. Я чувствую, как во мне пробуждается древний пласт ведьминской силы. А гусельный альбом, кстати, был написан за день – у меня было странное пограничное состояние, когда можно прям ложкой набирать сны и горечи и сразу же музыкально их воплощать.
А еще случается, что мне видятся трупы где-нибудь, и стоит прошерстить территорию получше – там действительно что-то такое было. Например, однажды мне привиделся убитый мужчина на фрязинском поле. Через несколько месяцев мы пошли гулять по замерзшим Барским прудам и вуаля – оказывается на участке между полем и озером были убиты двое рыбаков – их зарезал местный радикальный исламист. Меня удивило то, что никакого резонанса вне города история не получила. Последняя моя картина «Посвящение рыбакам» – это пейзаж того места, где они и встретились со смертью.
8 notes
·
View notes